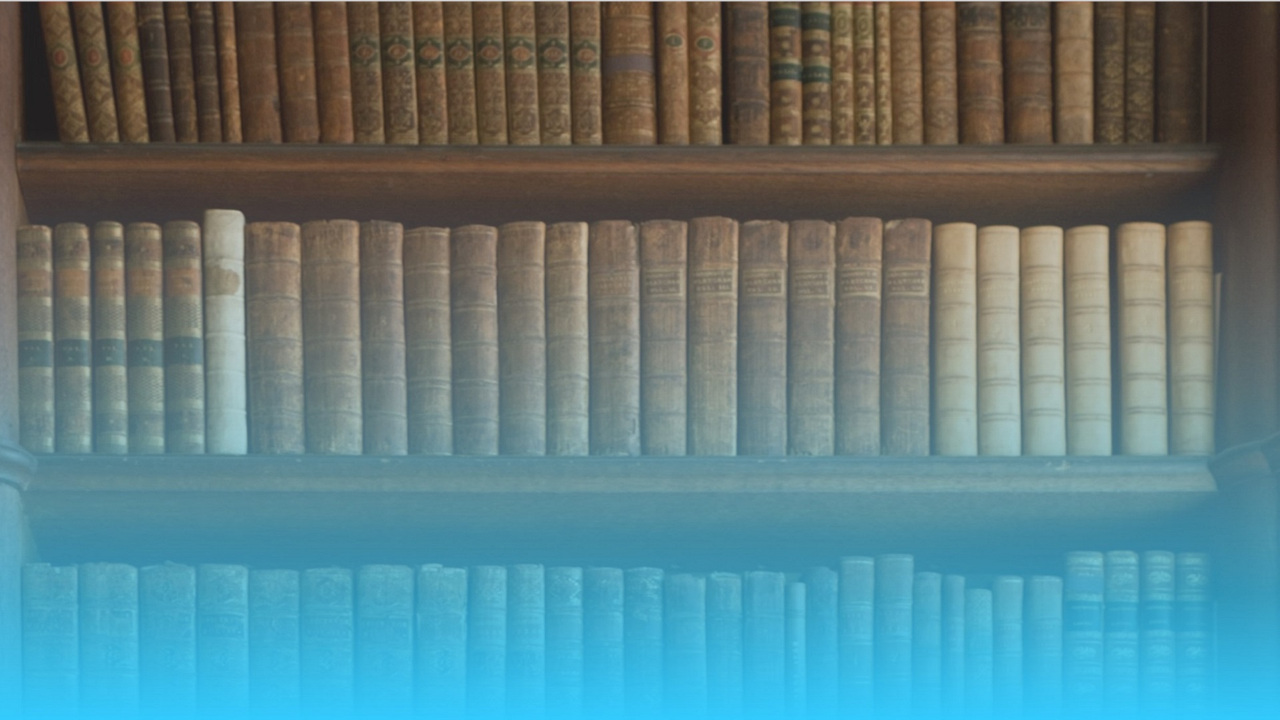
В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наша ведущая Кира Лаврентьева вместе с архимандритом Симеоном (Томачинским) говорили о роли и значении духовного отца в жизни христианина на основе писем святителя Феофана Затворника духовным чадам.
Ведущая: Кира Лаврентьева
К. Лаврентьева
«Разрешение в Таинстве Покаяния есть настоящее разрешение, кто бы ни совершал его. Ибо слушает Исповедь Сам Господь ушами духовного отца и разрешает Он же устами духовника. Грехи под действием разрешения духовного отца тотчас прощаются. Но след их остается в душе, и он томит. По мере подвигов в противлении греховным позывам следы сии изглаждаются (то есть уходят), а вместе с тем и томление то умаляется (то есть и тяжесть душевная тоже уходит). Когда изгладятся совсем следы той тяжести греховной, тогда и томлению души конец. Душа будет в уверенности отпущения грехов. По сей-то причине дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно составляют основу чувств текущего путем спасения».
— Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на Радио ВЕРА. Сегодня у нас в студии архимандрит Симеон (Томачинский), доцент Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Симеон.
архим. Симеон
— Добрый день.
К. Лаврентьева
— И мы сегодня с отцом Симеоном будем читать письма святителя Феофана Затворника духовным чадам, составитель книги — архимандрит Георгий (Тертышников), и будем говорить о духовнике, обсуждать тему духовника, духовного отца, ну и, конечно, исповеди, потому что темы исповеди и духовничества неразрывно связаны. Отец Симеон, вот по поводу первой цитаты, давайте сразу разберемся в понятиях, что такое духовник, что такое духовный отец, особенно для современного человека?
архим. Симеон
— Ну здесь, в первой цитате, вообще-то про духовника ничего нет... Нет, есть, да-да-да.
К. Лаврентьева
— Есть-есть, поэтому и важно понять, что такое духовник, а что такое, например, исповедующий священник, есть ли между ними разница.
архим. Симеон
— Вы знаете, тема на самом деле очень сложная, если бы я знал, что меня на неё позовут, может быть, пришлось бы отказаться, потому что много в ней разных мнений, подходов, и здесь нельзя какую-то абсолютно терминологическую ясность внести: «духовный отец должен быть вот такой, его признаки такие-то», структурировать, что вот это духовник. Ну, традиционно, конечно, духовный отец уже по самому слову, это какой-то гораздо более близкий человек, которому ты доверяешь полностью, и уже много лет с ним, ему исповедуешься. А духовник — это священник, у которого чаще исповедь бывает, потому что духовный отец иногда может быть в другом городе или вообще где-то далеко, в монастыре. На самом деле неплохая практика, она, наверное, к нам неприменима, но вот в Греции, где не было такого богоборчества, не было гонений на Церковь, там, как правило, действительно духовный отец и духовник он же — в монастыре бывает, какой-то опытный старец, к которому приезжают, в основном изредка, потому что с семьёй, не часто такая возможность бывает, в посты или в какие-то особые времена, у него тщательно исповедуются, причём это, я видел, в такой комнатке происходит, где иконы стоят, то есть это такая и большая духовная беседа, и одновременно исповедь, и человек подробно-подробно разговаривает о своих проблемах, духовных немощах, грехах, получает разрешение, и потом он живёт этим несколько месяцев или какое-то длительное время, и может приступать к Причастию, а если необходимость в каких-то срочных исповедях, то он может тогда обращаться к священнику, но у них нет правила обязательной исповеди перед каждым причащением. У нас всё-таки другая традиция, и, наверное, её нельзя ломать, потому что это сразу вызовет какие-то тектонические сдвиги, всё-таки у нас исповедуются перед каждым причастием, либо по благословению своего духовника, но это вызывает немножко другие сложности. Понятно, если у тебя духовный отец где-то далеко, то ты чаще исповедуешься у какого-то другого батюшки, которого ты можешь называть духовником, можешь — нет, и в этом смысле здесь такая подвижная ситуация. Вообще это от человека, конечно, исходит, кого он называет духовником или духовным отцом, сам себя не может и не должен, мне кажется, священник называть таким именем, а уже кем его считает человек — это другой вопрос.
К. Лаврентьева
— Отец Симеон, ну правильно ли я понимаю, что духовному отцу мы можем говорить какие-то глубинные наши проблемы, обсуждать с ним семейные вопросы, житейские, какие-то духовные тонкие моменты, а исповедующему священнику в ближайшем храме мы просто называем грехи, которыми конкретно согрешили, ну, может быть, какие-то ситуации, не углубляясь — так вот можно какую-то градацию провести, или это тоже несколько натянутый такой вариант?
архим. Симеон
— Ну, в идеале, наверное, так, если бы это было, но вообще это роскошь, что у меня и духовник, и духовный отец, то есть вообще все обо мне тут пекутся. Нет, бывает у человека и несколько священников, потому что жизнь сейчас такая сложная, например, в спальном районе люди живут с семьёй, они идут в соседний храм.
К. Лаврентьева
— Да, куда они в монастырь поедут.
архим. Симеон
— Да, или там в центр даже, это такой подвиг, хотя приезжают, вот у нас в Татьянинский храм, например, там вообще никто вокруг не живёт, приезжают семьи с детьми, и вот им нравится, там детям здорово, они себя прекрасно чувствуют. Но, тем не менее, не у всех такая есть возможность, потому что это вызывает кучу всяких забот, и с машиной, и со всем остальным, и с бытовыми вопросами. Поэтому бывает, что к разным приходится попадать священникам, ну и в этом смысле каждому целые глубины своей души и подробности биографии открывать, наверное, неправильно, это может спровоцировать какие-то ситуации непонятные, и смущающие, и ненужные, поэтому лучше действительно одному, если есть такая возможность, если есть такой человек, духовный отец, ему, конечно, подробно всё рассказывать, особенно какие-то вот наиболее глубокие, наиболее трудные вопросы с ним решать, и от него получать уже и благословение, и какой-то фундаментальный совет. Некоторые начинают бегать по священникам, от каждого ждать, что вот он откроет волю Божию. Ну, может быть, по вере человека так и бывает, я не знаю, Господь всемогущий, чудотворец, но может это иногда приводить к каким-то смущениям, потому что один скажет одно, а другой — другое, естественно. Вот я был 15 лет в Сретенском монастыре, у нас там 10–15 священников, вы с одним вопросом к каждому подойдите (а они живут в одном монастыре, в одном духе, друзья, общаются между собой) и вы получите 15 разных ответов, это 100%, понимаете? И вообще в этом жизнь, в этом многообразии подходов. Ну и к врачам, собственно, то же самое, сходите к разным врачам и вам дадут разные рекомендации, это известная вещь, если у вас какая-то проблема. Поэтому здесь очень важно стараться вот такие важные решения и глубинные какие-то переживания все-таки с одним священником, с одним духовным отцом решать, и от него, как слово Божие, принимать. И очень важно ещё, вот мы с вами перед передачей обсуждали, чтобы сам человек, конечно, молился и просил, чтобы через этого батюшку, через этого духовника ему Господь открыл Свою волю, здесь обоюдное должно быть решение, тогда Господь ему действительно открывает, то есть это не какая-то механическая магическая формула: вот пусть мне батюшка скажет, и всё потом сложится. Я такую историю вспомнил: один парень, его благословил духовник известный, не буду называть имя — жениться вот конкретно на этой барышне, хотя он не хотел, но вот его благословили, и потом у них вообще там всё не заладилось в семейной жизни, она от него сбежала. И он к этому батюшке прибегает, бегает за ним по всему монастырю, потом где-то поймал, а тот от него убегает, потому что понимает, что, в общем, сейчас придётся отвечать за свои слова. Тот поймал его где-то в алтаре, припёр там между жертвенником и алтарём к стенке и говорит: «Вот, вы благословили, а она от меня сбежала!». Он говорит: «Дурак! Самому надо было думать». (смеются) Так что здесь и то, и другое должно быть, и самому думать, и молиться, конечно, чтобы Господь открыл волю Божию, и доверять человеку, если он есть. Но это проверяется, конечно, годами, мы с вами понимаем, что духовный отец не появляется по приказу.
«Настоящих руководителей ко спасению трудно найти, Основное руководство ко спасению — слово Божие. Настоящего руководителя, как вы определяете его, не найдёте. Старец Божий Паисий полвека назад искал всю жизнь руководителя — и не нашёл, а порешил дело так: «Ищи руководство в Слове Божием и в учениях святых отцов, особенно подвижников, в случае же недоумений спрашивай живых ревнителей о спасении». Или согласитесь вдвоём-втроём и общим советом решайте все свои вопросы. У Премудрого написано, что страх Божий учит всему доброму. Испросите себе у Господа такого наставника. Слово Божие и отеческое будет просвещать вас, а совесть возьмёт опеку на себя возбуждать к деятельности и поддерживать Имейте под руками всегда и Слово Божие, и другие отеческие писания.
— Вот прекрасные слова святителя Феофана Затворника. Хотя они сказаны в XIX веке, но абсолютно актуальны сейчас и очень важны, потому что порой мы видим крайности, когда действительно хотят переложить на священника всю свою ответственность, и поэтому, собственно, ищут как бы духовного отца, чтобы вот, как он скажет, так я и буду поступать, и, дескать, какая на мне ответственность, тогда он на себя берёт и все последствия.
К. Лаврентьева
— Программа «Почитаем святых отцов» на Радио ВЕРА, и сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном (Томачинским), доцентом Московской духовной академии, читаем книгу Феофана Затворника «Письма к духовным чадам», обсуждаем тему духовника, и, конечно, актуальные вопросы, честно говоря, ставим, они актуальны всегда. Отец Симеон, но ведь это очень по-разному можно рассматривать. С одной стороны, если ты не можешь найти духовника, но реально молишься, и Господь тебе не даёт, вот сердце твое ни к кому не располагается, и как-то контакта особого глубинного ни с кем нет из священников, с которыми ты общаешься, тогда — да, действительно можно руководствоваться Евангелием, святыми отцами, советоваться с более опытными людьми. Но если ты действительно начинаешь сам себе хозяином быть, и неким таким самочинием занимаешься, что вот я сам себе духовник, то где здесь крайность, где здесь, наоборот, тот срединный путь, по которому надо идти, на ваш взгляд?
архим. Симеон
— Знаете, у нас вообще народ очень любит сейчас статистику. Вот было такое интересное исследование в Свято-Тихоновском университете, какое количество у нас вообще священников на душу населения, и там были совершенно фантастические выводы, исследовали, сколько человеку нужно минут, чтобы с ним поговорили, и сколько у нас на это есть священников. Причём берётся не всё население, а только верующие люди, которые в храм ходят. Так там катастрофическая нехватка священников, физическая просто, то есть там нужно раз в десять больше, чтобы просто они могли уделять внимание людям на исповедь, на разговор, потому что, ну, извините, у нас священники тоже многие сейчас и работают, и о семье должны заботиться, и многие другие у них попечения, они живые люди тоже, им и спать, и есть надо, и так далее. Но даже не в этом дело, не в том, что они не хотят, а в том, что даже просто это физически невозможно, поэтому тут, грубо говоря, кому как повезёт, нельзя всем иметь вот такого своего личного духовника просто по объективным причинам. И здесь для нас, конечно, в чём-то тайна домостроительства спасения, но я уверен, что если человек искренне ищет духовного отца, наставника или духовника, как бы он не называл, такого советника, скажем, в духовных вопросах, который посвящён в особенности жизни и семейного положения, и каких-то деталей, чтобы не надо было вот этот бэкграунд каждый раз заново рассказывать, с которым уже пуд соли вместе съели, может быть, уже и даже ссорились как это в семьях, бывает, и как-то не понимали, но уже вместе прошли большой путь с этим священником, и если человек просит и ищет такого духовного отца, то в конце концов он, конечно, найдёт. Но, наверное, даже если брать во внимание это исследование университета, скорее всего, у большинства или у многих не будет такой возможности, поэтому они должны понимать, что, в общем-то, здесь конкуренция за время священника, к сожалению, неизбежна и нужно понимать, что не всесилен батюшка, но хотя бы кратко вот сколько он может времени уделять, он будет уделять.
К. Лаврентьева
— Да если помолится — уже хорошо, самое главное.
архим. Симеон
— Да, конечно. Поэтому здесь, повторюсь, каких-то готовых рецептов нет, каждая ситуация уникальна. Бывает, что и расстаются люди с духовником. Ну, как расстаются: переехали, например, или его перевели на другой приход, или, может быть, даже по каким-то взглядам разошлись, или, читая Евангелие и святых отцов, поняли, что не совсем их человек, не тот человек, которому можно всецело доверять. Ну вот у меня, например, такое было, приходилось менять духовника в жизни.
К. Лаврентьева
— Ну, отец Симон, если мы эту тему затронули болезненную, давайте, может быть, хотя бы какие-то крайние точки назовем, когда действительно нужно, может быть, не менять, но напрячься: тот ли это человек, который должен руководить твоей духовной жизнью? Я просто против, знаете, вот этих вот чрезмерных умствований, когда ты каждый совет рассматриваешь под лупой, тысячу раз сомневаешься, еще сто раз у всех переспросишь, потому что это тоже расплескивание идет себя в некотором смысле. Но, опять же, есть опасные такие черты, которые лучше не переходить. Вот давайте мы про эти черты поговорим, когда нужно уже как-то более внимательно следить, задуматься?
архим. Симеон
— Прежде всего нужно понимать, что никто из, нас, священников тоже не гарантирован от отступлений и от веры, и от всего остального. Священник может и вообще уйти от своего призвания, к сожалению, или к каким-то крайним взглядам примкнуть даже политического толка, которые, например, неприемлемы для человека. Ну, давайте не будем скрывать, что это тоже может быть препятствием, если он, например, активно этим занимается. В принципе, такие есть тоже примеры. Потом, если, конечно, возникают какие-то чрезмерные уже пристрастия, граничащие с любовным каким-то характером или с одной стороны, или с другой, и, конечно, это тоже надо пресекать, это трудно.
К. Лаврентьева
— Такая некая влюбленность в духовника, об этом же тоже надо говорить. Вот он идеал как бы такой.
архим. Симеон
— Влюбленность еще ладно, но бывают более уже какие-то серьезные пристрастия. Это тоже надо обозначить, раз уж мы тут открыто говорим обо всем, такое тоже бывает в нашей жизни. Но мне кажется, главное, если человек принимает такое решение — уйти от духовника, перейти к другому, чтобы все-таки он как-то это обозначал, открыто проговаривал, чтобы батюшка понимал, потому что мы все прекрасно всё понимаем, но бывает как-то странно это, когда человек, например, к тебе ходит довольно долгое время, потом вдруг пропадает вообще, причем не то, что он там уехал, а он здесь же живет, но просто вот раз, и все, без объяснений. Понятно, что это не муж и не жена, то есть не надо переносить эти отношения на семейную кальку, поэтому каждый совершенно свободен сказать: «Все, вы меня больше не устраиваете, с завтрашнего дня я перехожу к другому батюшке, потому что вы для меня недостаточно строги». Ну ладно, какой есть, простите. Это нормально, что человек ищет и ходит к одному, к другому. Вообще в нашей сейчас жизни, как мне кажется, редко все-таки, что вот есть один духовный отец; если кому-то повезло, то просто мои поздравления, респект, и вообще храните это как зеницу ока, но все-таки давайте честно скажем, что у большинства это как-то иначе. Даже у меня вот несколько, можно сказать, духовных руководителей, с которыми я советуюсь, и есть, например, у нас духовник в академии, у которого мы исповедуемся, ну и так далее, не буду углубляться, но тоже это некая естественная ситуация, ты не можешь так: «а давайте выберем одного, назначим его старшим», это бюрократизация уже будет духовной жизни, надо как-то с рассуждением. Поэтому святитель Феофан и пишет: Слово Божие и святоотеческие писания, если это у нас есть как основа, мы почувствуем, что что-то не так, или мы куда-то не туда движемся, или, может быть, даже священник не в ту сторону нас направляет, с которым мы пытаемся построить отношения. Здесь творчески, мне кажется, надо подходить. В первую очередь понимать, что это моя душа и моя жизнь, за которую я несу ответственность, какой бы ни был духовник и духовный отец, все равно ответственность ни в коем случае на него никогда не переходит, это моя жизнь, я перед Господом предстаю. Духовник — помощник, духовный отец — да, он руководитель, путеводитель, но он не заменяет собой Бога ни в коем случае, конечно.
К. Лаврентьева
— Ну вот я смотрю еще цитаты из писем Феофана Затворника, и тоже интересное мнение он высказывает, как раз о том, о чем вы говорите, отец Симеон:
«Когда нет духовного отца, надо руководствоваться святоотеческими книгами. В прежнем письме, на которое я не успел ответить (пишет он, видимо, духовному чаду), вы жалуетесь, что отца духовного не найдете никак. Что же делать? Оставайтесь одни с книгами и идите своим путем со страхом, осмотрительностью и смирением. (Вот, кстати, очень важно: страх, осмотрительность, смирение, без самоволия, без самочиния вот этого). Если что встретите недоуменное, спрашивайте. Я буду отвечать, как сумею, а не сумею — так и скажу. Ныне не найти настоящего руководителя, а говорителей много, писателей — еще больше, хоть те и другие не всегда попадают в такт. Из числа последних я не последний».
— И вот дальше про книги еще одна цитата:
«Книги могут заменить руководителя, если присоединить к ним вопрошение старцев и братий (вот это важный момент). Книги не окончательный учитель, но все же учитель. И они могут заменять руководителя, если присоединить к ним вопрошение старцев или братий. Или если согласиться вдвоем или втроем. Двое или трое — единомысленные — сходятся и спрашивают друг друга, и решают вместе, в чем бывает недоумение; и вам можно согласиться с какую сходною с вами женщиной и совещаться по руководству книг, живя хотя не вместе, а розно, в разных местах».
— То есть тут он рекомендует найти духовную такую сестру вот этой женщине, хотя на самом-то деле сам Феофан Затворник и есть её духовник, раз она с ним советуется. Но, видимо, все равно он так вот со смирением себя духовником не называет, говорит «вот найдите другую верующую женщину, с ней помолитесь, посоветуйтесь и примите решение». Не знаю, отец Симеон, я ни в коем случае не хочу свое умствование ущербное накладывать на письма святителя Феофана, но мне кажется, что в наше время это уже будет нести за собой больше искушений, если мы будем советоваться только лишь с друзьями и больше ни с кем.
архим. Симеон
— Вы знаете, мне вспоминаются замечательные слова уже старца нашего времени, отца Иоанна (Крестьянкина), он их постоянно повторял, как девиз такой: «Главное в нашей духовной жизни — доверие к Промыслу Божьему, это первое; и рассуждение с советом». Рассуждение с советом, вообще-то это очень похоже на то, о чем говорит Феофан. Это, конечно, высочайший дар, который у самого отца Иоанна был в великой степени, но его надо в себе воспитывать, взращивать через чтение Священного Писания и святоотеческих трудов. С советом: конечно, имеются в виду и духовные руководители, но, наверное, и какие-то единомысленные люди, потому что, в силу тех обстоятельств, о которых я выше сказал, что просто мало священников, реально их не хватает, ну что, мы их разорвём на части, на кусочки, что мы с ними будем делать? Они не могут. Поэтому важно в среде православной, чтобы люди общались между собой. Прекрасно, кстати, когда на приходах, в общинах после службы собираются за чаем, за трапезой, обсуждают и Евангелие, и какие-то вопросы духовной жизни вместе, может быть, со священником, когда-то и без священника, это всегда вдохновляет, как-то помогает. Но здесь говорится о более, конечно, тесном таком круге, о более уже единомысленных людях. Мне кажется, что этот совет святителя Феофана, хотя он и такой неожиданный, но вполне себе продуктивный и для нашего времени. Конечно, если есть свой духовный отец у семьи, то, безусловно, это счастье и благословение, но мы говорим о том, что у большинства-то нет такой возможности, поэтому вот люди, с которыми мы общаемся, такие единомысленные, единодушные, хотя, наверное, тоже не так часто они встречаются, но с ними обсуждать и проговаривать, мне кажется, это полезно. Это и будет рассуждение с советом, всё равно это не заменит нашего рассуждения.
К. Лаврентьева
— Программа «Почитаем святых отцов» на Радио ВЕРА и сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном (Томачинским), доцентом Московской духовной академии, читаем письма Феофана Затворника к духовным чадам, составленные архимандритом Георгием (Тертышниковым), и обсуждаем тему духовника, поиска духовника, тему исповедующего священника. И вот как раз сейчас будет цитата, отец Симеон, для продолжения нашего дальнейшего разговора на тему духовника и исповеди.
архим. Симеон
— Святитель Феофан пишет:
«Должно держаться одного духовного советника. Вы напрасно писали ко мне. Следовало спросить у своего духовника, разумеется, отца Иоанна. Обращаться за советами то туда, то сюда неодобрительно. Всем советник — Богом определенный духовник, которым обычно бывает приходской священник».
— Ну, как будто бы кажется, что это противоречит тому, что мы читали раньше, и о чем мы говорили...
К. Лаврентьева
— Интересно. Но это же письма, и он, видимо, каждому человеку пишет то, что ему потребно.
архим. Симеон
— Но здесь, во-первых, я думаю, что это связано и с определенной ситуацией, и тем более по своему смирению он говорит: «чего вы меня спрашиваете, когда надо своего приходского священника, батюшку». Здесь он как бы себя умаляет, чтобы возвысить другого в почтении, как апостол Павел говорит: «Друг друга честию больше себе творить». А здесь есть какая-то предыстория этого ответа, но то, что вот обращаться с советами туда-сюда неодобрительно, речь именно об этом, как мне кажется, когда человек начинает с одним вопросом бегать по разным священникам. Ну вот он получит десять разных ответов, ну и чего он потом с этим будет делать?
К. Лаврентьева
— Запутается ещё больше.
архим. Симеон
— Да. Многое зависит ещё от твоего внутреннего состояния, ты вот вообще молился о том, чтобы Господь тебе волю Свою открыл? Он через бессловесное животное, через ослицу может открыть волю Свою, а тем более, если ты едешь, например, за советом, с вопросом к духовнику или к священнику, которому ты доверяешь, и молишься усиленно, чтобы Господь открыл Свою волю, я думаю, что Господь, конечно, откроет через него, в этом смысле, сомневаться не нужно. Тем более святитель Феофан понимает, что в этом случае может возникнуть такая вообще дилемма и какое-то острое противоречие между духовным отцом, которым он является, и приходским священником, если они разное скажут, а это очень большая вероятность, на одну и ту же ситуацию могут по-разному посмотреть. И как потом? Человек того приходского священника оставит, и что, он каждый раз будет за малейшим советом обращаться к святителю Феофану? Тем более что это невозможно в силу практических причин. Он потеряет и одно, и другое, получится. В этом смысле какой-то баланс, какая-то мудрость должна быть, и святитель Феофан пытается в этом ответе как-то разграничить прерогативы духовника, то есть священника, регулярно у которого исповедуется, и духовного отца, который помогает в каком-то глобальном видении пути человека ко спасению. Мне кажется, так.
К. Лаврентьева
— Вы сегодня уже вспоминали отца Иоанна (Крестьянкина), если я не ошибаюсь, именно он говорил, что не ищите особых состояний, особых храмов, особых духовников, ходите в ближайшие храмы, исповедуйтесь священнику в ближайшем храме, никакого чуда не ищите, и будет вам явлена воля Божия через него. И, вы знаете, отец Симеон, это такая мудрость, и я очень рада, что мы читаем святых отцов в рамках этой программы, потому что они просвещены Духом Святым, и действительно, нужно их слушать, а, кого нам ещё слушать: Евангелие и святых отцов. И вот действительно, святитель Феофан говорит про батюшку в ближайшем храме, а я вспоминаю историю, как я в 19 лет на полном распутье каком-то пошла к батюшке в ближайший храм, вот прямо так и решила, хотя у меня была возможность поехать в какой угодно монастырь, это в Долгопрудном было, к чести скажу батюшки этого, и он был очень молодой, его только рукоположили. Но я такая, с юношеской вот этой наглостью, не побоюсь этого слова, думаю: ну что мне этот молодой батюшка скажет, он же ещё не имеет жизненного опыта, он же ещё совершенно сам семейной жизнью не пожил, сам ещё детей не родил, ну что он мне скажет? И я практически с этим видом, у меня, видимо, на лице это всё было написано, к нему пришла на исповедь. Он говорит: «Слушай, ну я к тебе не напрашиваюсь в духовные отцы, и даже не предлагаю тебе этого, но вижу, что тебе, конечно, нужна поддержка, молитвенная помощь. Давай мы будем просто с тобой общаться и вместе молиться». Вот так он сделал. И что вы думаете, отец Симеон, я понимаю, что это не универсальный рецепт для всех, что обязательно со всеми так будет, но и не свидетельствовать об этом тоже, с моей стороны, будет нечестно. Что происходит: я начинаю регулярно ходить к нему на исповедь, причащаться в этом храме, он, видимо, начинает за меня молиться, это очевидно, и у меня очень-очень быстро изменилась жизнь. То есть я просто ему поверила, перестала его слова критике какой-то подвергать, перестала на него смотреть с каким-то сомнением. Я думаю: ну если Господь мне его дал, значит, Господь мне через него явит Свою волю — и так и получилось, отец Симеон! То есть фактически доверие наше Богу здесь играет ключевую роль. И спасибо этому батюшке, он действительно за меня очень молился, и очень быстро у меня выстроилась жизнь в нужную сторону, потому что в тот момент, когда я к нему пришла, я была совсем не в том состоянии, в котором нужно. И потом он меня передал уже другому духовнику, духовнику моего жениха, потом вышла за него замуж, и он стал уже нашим семейным духовником, и вот так как-то это всё с Божьей помощью выстроилось. И я понимаю, отец Симеон, у меня маленький опыт, мизерный, я особо-то права не имею тут вещать на многомиллионную аудиторию, но волей Божьей я тут сижу, поэтому всё равно как-то делюсь тоже своим опытом маленьким. Каждый раз, когда я советы духовника ставила под сомнение, начинала думать: а правильно ли он мне посоветовал, и поступала по-своему, я, конечно, приходила в тупик. То есть я тоже должна об этом свидетельствовать: если ты чувствуешь, что действительно Господь дал тебе этого человека, но тебе мешают мозги, вот тут, конечно, очень чётко надо различать. Если ты сердцем чувствуешь, что всё на самом деле очень хорошо, но голова начинает тебе мешать, лукавый начинает тебя искушать, вот эти помыслы надо, конечно, отбивать сразу.
архим. Симеон
— Да, прекрасная история. Действительно, отец Иоанн (Крестьянкин) часто говорил, что у своего приходского священника получите от Бога ответ, и это часто встречается.
К. Лаврентьева
— Только помолитесь, доверьтесь. Не надо сверхъестественных каких-то знамений не искать.
архим. Симеон
— Да, потому что у нас и батюшек тоже ищут по разным критериям: чтобы борода была длинная, возраст, выражение лица. А потом: «худому попу народ не верит», всякие бывают критерии.
К. Лаврентьева
— И полному тоже нельзя доверять (смеются).
архим. Симеон
— Нет, ну есть такое мнение, действительно, очень, мне кажется, обоснованное, что полный батюшка, он уже будет себя укорять, он будет смиренный, поэтому к нему лучше обращаться. Ну всякие бывают критерии. А если ты понимаешь, что тебя Господь ведёт, если ты молишься и ищешь, то тебе Господь откроет, и приходской священник, при всей, может быть, своей неопытности, может гораздо больше тебе дать именно того, что тебе нужно здесь и сейчас.
К. Лаврентьева
— Тоже по смирению своему, да?
архим. Симеон
— Да, через Бога. Потому что священник-то свидетель, особенно во время исповеди. Ну и вообще всё-таки вот мы, простите, уж так я скажу, делаем акцент сегодня на духовниках и священниках, а всё-таки, повторюсь, духовная жизнь, исповедь — это же глубокое личное внутреннее общение Бога и человека. Вот мы как-то говорили об «Исповеди» блаженного Августина — ну вот она, подлинная исповедь, как он шёл к Богу, каждый шаг он перед Богом, о каждом эпизоде своей жизни говорит, и тоже у него был такой тернистый путь, Амвросий Медиоланский ему помог, привёл его, но дальше он уже сам шёл и сам стал духовником для многих. В этом смысле нельзя никогда терять из виду, что это наша ответственность и наше личное общение с Богом, священник здесь просто помощник, какой бы он ни был, хоть он там гений духовной жизни, это замечательно, если у нас есть такой духовный отец, но всё равно он не может заменить Бога. Мы ещё больше будем отвечать, когда спросят: «Слушай, у тебя был такой духовный отец, а ты что из себя представляешь?» То есть ты рядом с таким человеком находился, ты уже сам должен был бы просветиться тысячу раз, а ты вообще никакой, это больше даже ответственность.
К. Лаврентьева
— Отец Симеон, кстати, вы очень важную тему затронули, ведь очень часто мы заменяем духовником Христа. Это очень ярко описано в «Братьях Карамазовых» Достоевского, когда Алёша так прикипел душой к старцу Зосиме, что он полностью занял его душевное пространство. Вот как нам так выстраивать свою духовную жизнь, чтобы Христос был в нашем сердце на главном месте, а все остальные уже на своём: духовник, супруг или ещё кто-то, на своём?
архим. Симеон
— Ну себе просто напоминать об этом, и вот упомянутому Алёше же тоже Господь помог, когда старец-то чуть-чуть стал там подгнивать после смерти, и как-то он вдруг понял, что тот тоже человек, и смущение, конечно, это было большое, но с другой стороны, и побудило его к каким-то иным размышлениям. Но вот себя как-то останавливать, не делать кумира даже из самого лучшего батюшки, тем более что никто из нас не застрахован от каких-то падений, даже выдающиеся священники, поэтому мы и просим всегда молиться о нас. Вот тут ещё цитату хотели прочитать:
«Вся наша жизнь состоит из непрерывного ряда деяний: мыслей, слов, дел, одни другими сменяющихся и одни другие погоняющих. Пересмотреть все такие деяния — особо каждое — и определить их нравственную цену нет никакой возможности. Даже если бы вы вздумали перебрать и пересудить деяния свои, в один день совершенные, и этого не сможете сделать. Человек — приснодвижное существо. Сколько передумает и переделает он с утра до вечера! Сколько же наделает он от исповеди до исповеди! Как же тут быть? Никакой нет нужды все перебирать и пересуждать особо. У нас есть неусыпный страж — совесть. Что худо сделано, она никак не пропустит; и как вы ей не толкуйте, что то ничего, а это сойдет, она не престанет твердить все свое: что худо, то худо. И вот вам первое дело: прислушайтесь к совести и все те дела, которые обличает она, без всяких извинений признайте грешными и готовьтесь исповедать их. Второе дело — перебирайте заповеди и смотрите, исполнены ли они вами или нет».
— Да, это вот цитата о подготовке к исповеди, в чем она должна состоять. И действительно исчислить все прегрешения, которые мы ежеминутно, если так разобраться, совершаем, невозможно и не нужно, не в этом суть исповеди и покаяния, а суть в обращении к Богу, в понимании, святитель Феофан в этих письмах постоянно повторяет: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Вот наша главная цель — понимать, что мы далеки, мягко говоря, от совершенства, и полны недостатков, но некоторые думают, что это человека просто как плита такая каменная убивает, и он ни к чему становится не способен, но это совершенно не так. Вот про Моисея сказано в Библии, что он был кротчайший человек из всех живших на земле, самый кроткий, самый смиренный — Моисей, понимаете? Человек, который десять казней египетских, сейчас у вас там все умрут, сейчас на вас там эти мухи и прочие казни, вода в кровь превратится и прочее, а потом и первенцы, потом выводил народ из земли египетской в обетованную землю, Красное море там жезлом — ну, все, что мы знаем о Моисее. Разбивал скрижали кротчайший человек на земле. Кротость и смирение — это великая сила. Вот мы сегодня Достоевского вспоминали, он говорил: «смирение — страшная сила», потому что смирение — это не забитость и какая-то приниженность такая внешняя, а это то, что тебе дает подлинное понимание жизни, твоего места. Мы, собственно, в каноне Андрея Критского говорим: «возьми в руки крест, которым ты можешь так же, как Моисей, великие дела совершить». Смирение дает человеку крылья, дает человеку силу, дает человеку правильное видение себя и своего места в мире, и в этом смысле покаяние очень важно, это такая творческая сила, оно преображает всё вокруг, оно человека не должно вводить в депрессию и в какое-то постоянное самокопание, об этом святитель Феофан и говорит.
К. Лаврентьева
— Когда человек думает: «Я очень плохой, я самый плохой, самый грешный, я никогда не спасусь».
архим. Симеон
— Да, если мы будем думать о том, что мы вот каждую секунду всё делаем не так.
К. Лаврентьева
— А это тоже эгоизм, да, отец Симеон? Ты всё равно думаешь о себе, тоже гордыня. «Я самый плохой» — это тоже некая форма гордыни.
архим. Симеон
— Ну и вообще зацикливание на чём-то, оно никак, конечно, к добру не ведёт.
К. Лаврентьева
— Программа «Почитаем святых отцов» на Радио ВЕРА, и сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном (Томачинским), доцентом Московской духовной академии, говорим о значении духовника в жизни христианина на основе фрагментов из писем Феофана Затворника. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Симеон, вот вы сказали про смирение, и действительно, это такая пронзительная история, когда человек, наверное, себя умаляет до такой степени, чтобы его пространство, его эго занял Господь. И вот вы сказали про Моисея: действительно, он ведь такие дела вообще делал. Но, опять же, видимо, потому что умалял себя до предела и давал действовать Господу. Если мы вспомним, он же вообще не хотел идти, выводить евреев из Египта, он сопротивлялся. Он говорил о своем косноязычии, говорил о том, как он это сделает. Фараон очень сильный правитель, как можно вывести евреев из Египта, тогда это представлялось просто невозможным. Но ничего, ничего, явил Господь силу в нём свою.
архим. Симеон
— Да, вот это смирение — это результат, конечно, покаяния и трезвого воззрения на себя, на свои недостатки, но такого позитивного, творческого, как вот сейчас говорят: позитивный взгляд на мир, но он в этом тоже проявляется, что мы видим своё несовершенство и радуемся, а Господь нас всё равно любит, Он нам всё равно даёт возможность работать над собой, как бы лучшую версию самого себя создавать. То есть это всё в наших руках, и здесь, если мы сегодня говорим о духовнике, он помощник в этом деле. Так же, собственно, как, если уж Моисея вспомнили, ведь это тоже такой образ духовного пастыря, руководителя. Помните, они там, когда пришли, уже богоизбранный народ, к Красному морю, а Моисей-то их кружным путём повёл, не прямым, они туда сбежали быстрее, а тут их настигает фараон, и они начинают роптать на Моисея: «нам так хорошо жилось, нас кормили каждый день в Египте, а тут что, сейчас нас всех „почикают“ и море впереди».
К. Лаврентьева
— Ну их тоже можно понять, конечно: они же там с детьми, с женами.
архим. Симеон
— Но эта ситуация тоже, понимаете, с духовным руководителем: «куда ты меня привёл, что это такое?» Но Господь, когда хочет человека чему-то научить, Он его ставит в безвыходную порой ситуацию, в тупик, из которого нужно, возопив всем сердцем ко Господу, найти выход с Божьей помощью, и вот это Чермное море по суху перейти, житейское.
К. Лаврентьева
— Вот как раз цитата святителя Феофана по поводу смирения и сокрушения сердечного:
«Сокрушение сердечное — корень христианского расположения. Блаженно расположение ваше, что непрестанно ощущаете сокрушение сердечное. Это коренное христианское расположение. На него, как на ниточку бисер, нанизываются все Богу угодные чувства — и все подвиги потому имеют цену, что из него исходят и им требуются, и поддерживаются. Слава тебе, Господи, что это так у вас есть. Подогревайте сие чувство, чем сумеете: размышлением, чтением, молитвою. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».
— Точно, отец Симеон, вы же это сказали недавно.
архим. Симеон
— Это я на святителя Феофана ссылаюсь. Ну и вообще, это 50-й псалом, который мы ежедневно читаем.
К. Лаврентьева
— Ну конечно, 50-й псалом царя Давида. И, кстати говоря, действительно, как говорят святые отцы: если мы ещё не согрешили, враг нас будет убеждать, что — «согреши, Господь милостив, Он тебе всё простит». А когда мы согрешаем, враг нас убеждает, что — «нет, теперь всё, нет тебе прощения». Но вспомним царя Давида, который, в общем-то, влюбился в женщину замужнюю и буквально увёл её у мужа, а мужа поставил на самое опасное место на войне, его просто, к сожалению, убили, и ребёнок у них вследствие этого первый умер, а потом уже родился Соломон. Но какое покаяние у него было! Ведь 50-й псалом родился полностью из вот этого сокрушённого сердца царя Давида.
архим. Симеон
— Да, сила покаяния, конечно, невероятная, вот именно. Не случайно 50-й псалом везде у нас, и в службе каждой присутствует, и в нашем молитвенном правиле, и действительно, порой как-то вот удаётся глубоко прочувствовать, это красной нитью проходит: «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Ну а по исповеди еще Маленьким принцем прекрасно говорилось: «Встал утром — приведи в порядок свою планету», «вулканы» прочисти. В этом смысле вот эта забота ежедневная о своей душе, о том, что мы призваны дать ответ Богу за свою бессмертную душу, за свои деяния, это очень важно. И если что-то не так, то вот святитель Феофанов говорит о совести, как о главном таком ориентире, это тоже очень фундаментальный аспект, чтобы мы имели его в виду всегда, даже вне зависимости от того, есть духовник, нет духовника, совесть-то у тебя у каждого есть, которая подсказывает, в чём ты грешен. И дальше, если она подсказывает, то вот это сокрушение сердечное помогает человеку воспрять. Даже Давид, мы вспоминаем, после такого обличения от пророка Нафана он, конечно, мог быть вообще совершенно раздавлен...
К. Лаврентьева
— Или мог прогневаться на пророка Нафана — ну мог, потому что он жёстко очень с ним поговорил, а он сразу смирился, тут же.
архим. Симеон
— Да, он мог и ещё больше во все тяжкие там пойти, и ожесточиться мог, то есть на самом деле вариантов было немало. Вообще царю тогда много чего позволялось, собственно, все женщины государства его были по праву, грубо говоря, и формально тут тоже: ну а что, он же его не убил сам. Давид, кстати, тоже был очень кроткий человек, смиренный. Помните, когда его там поносили публично? Он уже царём был, и говорят охранники ему: «Ты скажи, мы сейчас его просто убьём, растерзаем этого человека». Он говорит: «Нет, это ему Господь повелел поносить царя Давида, поэтому пусть он ругается». А это было публично, вот царя разносить, ну как это может быть? А он это принимал как от Господа. В этом смысле он, конечно, образец смирения, но это не значит, что он никаких ошибок не совершал, просто ещё одно нам напоминание, как и с апостолом Петром случай о том, что всякое в жизни возможно, и даже такие тяжёлые падения, к сожалению, случаются. Но для нас это не повод впадать в отчаяние, как Иуда, а для нас это повод действительно себя как-то укорить, сердце своё сокрушить покаянием и снова вернуться к Господу с новыми силами, как вот Давид, и показал, что это возможно даже после такого тяжёлого греха, и не случайно святитель Феофан акцентирует на этом расположении сердечном. Оно же может даже в словах не выражаться каких-то ясных, мы можем какую-то очень красивую и витиеватую исповедь приносить, но, если у тебя нет сердечного сокрушения, это же не просто признание. Иуда тоже сказал: «Согрешил, предав кровь невинную». Ну просто он как бы признал, что он был неправ, грубо говоря, что это неправильно было.
К. Лаврентьева
— Господи, не дай нам впадать в отчаяние, да.
архим. Симеон
— Да, но мы не случайно, и даже перед каждым Причастием, это как-то даже странно выглядит, что мы всё время про Иуду вспоминаем, но это та вероятность, которая может подстерегать человека, если он не будет уповать на Бога. Исповедь и покаяние — это не просто холодное признание своей неправоты и каких-то своих ошибок.
К. Лаврентьева
— Ну да: согрешил, пришёл на исповедь и дальше пошёл опять грешить.
архим. Симеон
— Но Иуда не пришёл на исповедь, то есть он мог бы как бы прийти на исповедь, и Господь бы упростил, конечно же, нет непрощаемого греха, но он себя привёл в такое состояние, что даже не мог перед Богом покаяться.
К. Лаврентьева
— Отец Симеон, правильно я понимаю, что на исповеди нужно говорить то, что болит, потому что ты же Богу исповедуешь, то, что реально у тебя болит?
архим. Симеон
— Конечно, да. Ну вот святитель Феофан пишет, что неисчислимы наши грехи и не нужно их выцеживать бесконечно. Конечно, о том, что болит, и в чем именно сейчас меня совесть обличает. Вот почему полезно «Исповедь» блаженного Августина читать — чтобы почувствовать, там как раз вот этим духом сокрушения и смирения вся книга пропитана, и она вся прострочена псалмами Давида, потому что в Псалтыри это чувство разлито везде: с одной стороны, доверие безграничное Богу и упование на него, и с другой стороны, понимание, что я прах и пепел.
К. Лаврентьева
— Отец Симеон, ну и несколько слов в завершение темы духовника. Вот мы с вами почитали письма святителя Феофана духовным чадам, порассуждали, но вот какое-то резюме: правильно ли я понимаю, что нужно всё-таки молиться о даровании духовника, а если он есть, то слишком уж не умствовать лукаво, а как-то сердечно доверять, что Господь волю Свою явит через него, и молиться об этом, молиться за своего духовника. А если его нет, то, соответственно, руководствоваться уже Евангелием, святыми отцами, ну и советоваться всё-таки с какими-то опытными людьми?
архим. Симеон
— Да, в любом случае я бы на первое место даже поставил руководствоваться Евангелием и святоотеческим учением; молиться, конечно, о даровании духовника, и, если он есть или появится, то необходимо тоже молиться о том, чтобы Господь через него открывал свою волю, не просто вот это раз навсегда нам дано, но каждый раз как-то это возобновлять. Ну а если такого священника, вот прямо абсолютно, которому мы можем доверять, нет — ну ничего страшного, Господь нас не оставляет, Господь рядом, Он может и через обычного приходского священника нам открывать Свою волю, и через каких-то людей, через обстоятельства жизни, в этом смысле доверие к Промыслу Божьему и рассуждение с советом, мне кажется, прекрасно, и замечательный совет отца Иоанна (Крестьянкина), который всегда поможет и главное руководство нашей жизни.
К. Лаврентьева
— Спасибо огромное за этот разговор. Дорогие друзья, это была программа «Почитаем святых отцов» на Радио ВЕРА, у нас в студии сегодня был архимандрит Симеон (Томачинский), доцент Московской духовной академии, мы читали фрагменты из писем Феофана Затворника к духовным чадам, разговаривали о значении духовника в жизни христианина, о покаянии, о исповеди. Спасибо огромное, отец Симеон.
архим. Симеон
— Спаси, Господи. Благодарю вас.
К. Лаврентьева
— Мы очень ждем вас в нашей студии, всегда очень вам рады. Всего вам доброго, дорогие слушатели, до свидания.
Все выпуски программы Почитаем святых отцов
Длинный-длинный день

Фото: PxHere
В одной провинции жил жадный помещик Цзун. С каждым днём росли его доходы, но ему было мало. Часто по ночам Цзун ворочался на своей перине без сна, придумывая способы ещё больше разбогатеть. И однажды ему вот что пришло в голову: как было бы хорошо, если бы день стал длиннее часов на шесть! Ведь тогда его батраки могли бы работать ещё дольше, и успевать за день обработать ещё несколько полей. А у него сразу прибавилось бы денег!
С той поры жадный Цзун совсем потерял покой и стал у всех выспрашивать, нет ли на свете волшебника, который знает способ удлинить сутки хотя бы на шесть часов.
Услышали об этом крестьяне и загрустили. Ещё бы! Они работали на полях по двенадцать и шестнадцать часов, и помещик не позволял им разогнуть спины. Когда кто-нибудь из батраков останавливался, чтобы смахнуть пот с лица, Цзун кричал:
— Работай! Отдохнёшь, когда придёт время!
И вот как-то вечером к усадьбе Цзуна подошёл длиннобородый старик, о котором сказали, что он умеет совершать чудеса. Помещик накормил гостя и за ужином поведал о своём заветном желании.
— Небеса услышали твою молитву, — сказал хозяину старик. — Теперь всё зависит от тебя. В сутках будет столько часов, сколько ты сможешь проработать без отдыха на поле.
Обрадовался Цзун и подумал: «Если голодные батраки могут работать на меня до ночи каждый день, то уж один-то раз я смогу потрудиться на себя тридцать часов. Зато потом стану богаче всех в провинции».
Ещё не взошло солнце, а Цзун был уже на поле, которое требовалось перекопать. Первый час он работал бодро и весело. На втором часу начал уставать и решил хоть минутку отдохнуть. Но старик строго на него прикрикнул:
— Работай! Отдохнёшь, когда придёт время!
И Цзун, тяжело дыша, продолжил работу. Когда взошло солнце, с помещика уже лил десятый пот. Он даже не видел, что все его батраки бросили работу и сгрудились возле поля: не каждый день увидишь, как богач копает сам.
Взмахнул помещик ещё раз-другой заступом и у него начали подкашиваться ноги от усталости.
— Сколько я уже работаю? — спросил он чуть слышно, прерывающимся голосом.
— Посмотри на тень: ты не проработал и трёх часов, — ответил старик. — Отдохнёшь, когда придёт время!
После этих слов помещик без сил рухнул на землю. Положили его на носилки и отнесли в усадьбу. Этот длинный — бесконечный день Цзун потом долго вспоминал, как страшный сон.
А старик с длинной бородой куда-то исчез. Говорили, будто никакого волшебника и не было. Просто кто-то из крестьян переоделся в платье странника и наклеил себе бороду, чтобы проучить жадного помещика.
Так это или нет: кто знает? А только с той поры никто из батраков не слышал на поле грозного окрика: «Работай! Отдохнёшь, когда придёт время!»
(по мотивам китайской сказки)
Все выпуски программы Пересказки
Иоганн-Баптист Лампи. «Портрет Василия Степановича Попова»

— Андрей, взгляни вот на этот портрет — молодой мужчина в парадном камзоле с орденами. На груди — шёлковое жабо, на голове — старинный напудренный парик. А у меня почему-то возникает чувство, что герой картины мне знаком. Хотя он жил двести, а то и триста лет назад.
— Портрет, Саша, был написан в конце восемнадцатого века. Автор этой работы, австриец Иоганн-Баптист Лампи, служил придворным художником при императрице Екатерине Второй. Изображённый на картине Василий Степанович Попов — один из вельмож того времени.
— На кого же он похож?... Вспомнил — на Алексея! Помнишь, в институте с нами учился? Фамилия у него ещё такая звучная... Растопчин!
— А ведь и впрямь, сходство есть! Те же небольшие внимательные глаза под густыми бровями, пухлые губы, курносый нос. И главное, выражение лица — строгое и одновременно приветливое. А самое удивительное, что портрет Василия Попова мы увидели здесь, в Донецком художественном музее. Ведь Алексей родом отсюда, из Донбасса. Занятное совпадение.
— А Василий Попов тоже из этих мест? Может, он предок нашего Алексея?
— О родстве сказать затрудняюсь. А на свет Василий Степанович появился в государстве Речь Посполитая, это современная Польша. Его предки были мелкопоместными дворянами, дед служил священником. В середине восемнадцатого века на православных в тех краях начались гонения, и семья перебралась в Россию.
— А как Василий Попов стал приближённым к императорскому двору?
— Путь к успеху был непростым. Василий окончил Казанскую мужскую гимназию, в двадцать три года поступил на военную службу. Участвовал в русско-турецких войнах — их было две при Екатерине Второй. Служил под командованием Григория Потёмкина — князь руководил присоединением Крымского ханства к Российской империи.
— Тогда Попов и получил награды, которые украшают его мундир?
— Орден святой Анны — тот, что в виде креста на красной ленте, герой получил в 1789 году, после сражений с турками за крепость Очаков на берегу Черного моря. Сейчас это город в шестидесяти километрах от Одессы. Когда в 1791-ом войска Григория Потемкина наконец взяли Очаков штурмом, Василий Попов удостоился ордена святого Владимира первой степени.
— На портрете у героя три награды. А третью он за что получил?
— Орден Александра Невского — вот эту восьмиконечную звезду, Екатерина Вторая пожаловала Василию Степановичу в 1792 году, уже за службу при дворе. Он тогда возглавил комиссию прошений, адресованных императрице.
— Ответственная должность — начальник комиссии прошений!
— И здесь раскрылся особый дар Василия Степановича — сочувствовать людям, попавшим в беду. Это качество царского чиновника отмечали многие современники. Так, полководец Александр Суворов называл Попова славным, честным человеком без всякой гордости. Говорил, что тот охотно принимал участие в бедняках и снискал общие уважение и любовь.
— Какое ценное свидетельство!
— И оно не одно. Светлейший князь Александр Безбородко отмечал, что докладывая о несчастных, Василий Степанович проливал слезы непритворные и склонял к милости императрицу.
— Андрей, а ведь и нашему однокашнику тоже всегда было свойственно сострадание. Кто первым бросался на выручку друзьям в любой беде? Леша Растопчин!
— Может быть, потому Василий Попов и показался тебе на него похожим? Живописец Иоганн Баптист Лампи достоверно передал милосердный характер Василия Степановича, и ты узнал в герое старинного портрета нашего отзывчивого современника. В своей доброте они и впрямь как родственники. Теплота сердечная роднит людей!
«Портрет Василия Степановича Попова» кисти Иоганна-Баптиста Лампи можно увидеть в Донецком республиканском художественном музее
Все выпуски программы: Краски России
Людмила Дунаева «Дождь» — «Внешнее ведёт к внутреннему»

Фото: PxHere
Влияет ли поведение человека на его душевное состояние? И насколько? Один из эпизодов повести Людмилы Дунаевой «Дождь» посвящён поиску ответов на эти вопросы. Герои повести, Пёс и Кот, ждут Хозяина. В Книге, которую читает Кот, говорится, что Хозяин придёт тогда, когда дождь перестанет и над домом появится звезда. Но дождь всё не заканчивается, а звёзд ни Пёс, ни Кот вообще никогда не видели. И всё же они ждут. Кот заботится о доме, пёс сторожит сад. Им порой трудно понять друг друга, но до открытых ссор дело не доходит. Пока однажды пёс не советует коту помахать хвостом. «Это поднимает настроение», — объясняет он.
Только вот одного пёс не учёл. Коты, в отличие от собак, машут хвостом, не когда радуются, а, скорее, когда сердятся. Вот и наш кот внезапно жалуется: «Что-то мне не по себе». Но продолжает махать хвостом — и вскоре начинает злиться. В конце концов вспыхивает крупная ссора, загнавшая Кота на дерево, откуда он не может спуститься.
Так внешнее проявление раздражения пробудило в герое подлинный гнев. Почему так произошло? Дело в том, что внешнее и внутреннее тесно связаны, и поведение тела сказывается на состоянии души. Святитель Игнатий Брянчанинов, подвижник и духовный писатель девятнадцатого столетия, писал: «От благочиния тела зависит благочиние души». Человека, приведшего своё внешнее поведение в порядок, святитель сравнивал с сосудом, в котором нет трещин. Из такого сосуда не выльется наружу драгоценное миро — то есть такой человек не утратит сердечного мира, как это произошло с героем повести «Дождь».
Чем же закончилась ссора Кота и Пса? Придя в себя, герои осознают свою вину друг перед другом и пытаются её загладить. Пёс помогает Коту спуститься с дерева, Кот дарит Псу своё любимое пуховое одеяло. А вечером дождь утихает, и над домом всходит долгожданная звезда.
Все выпуски программы: ПроЧтение













