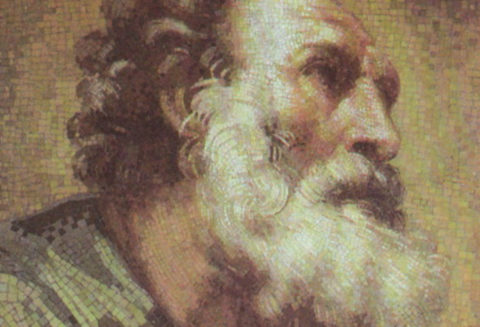У нас в студии был директор издательства «Даниловский благовестник», основатель, лидер и автор песен группы «Гелиос» Сергей Дубинкин.
Мы говорили с нашим гостем о том, как он пришел к вере и о его удивительном пути от лидера популярной музыкальной группы до директора издательства православного монастыря.
Ведущие: Игорь Цуканов, Кира Лаврентьева
О. Игорь
— Здравствуйте, дорогие друзья!
«Вечер воскресенья» на Радио ВЕРА.
У микрофона — Кира Лаврентьева...
К. Лаврентьева
— Добрый вечер!
О. Игорь
— ... и я, дьякон Игорь Цуканов.
Как всегда, в это время у нас в студии гости, с которыми мы можем говорить на тему «Христианин в обществе». И сегодня у нас в гостях очень интересный человек — Сергей Дубинкин, директор издательства православной литературы «Даниловский благовестник», автор и режиссёр ряда документальных фильмов исторической тематики — об этом поговорим обязательно сегодня, основатель, лидер, автор песен группы «Гелиос».
Сергей, добрый вечер! Рады Вас приветствовать в нашей студии!
С. Дубинкин
— Добрый вечер! Взаимно! Здравствуйте!
О. Игорь
— Сергей... наверное, первое, о чём хотелось спросить — вот, про то, чем Вы занимаетесь прямо сейчас, и занимаетесь уже давно — православное книгоиздание... ну... или — книгораспространение, в Вашем случае, больше — потому, что именно это, как я понимаю, основное дело директора издательства.
Просто, не секрет, что... вообще, книгоиздание, и, наверное, и православное книгоиздание, в последние лет двадцать, переживает... ну, может быть, не двадцать, поменьше... переживает не самые лёгкие времена. Тиражи очень маленькие, книжки раскупаются не очень хорошо... Ну, люди, кому было интересно, в общем и целом, всё прочитали и узнали.
А, вот, не свидетельствует ли это, на Ваш взгляд, о том, что... какой-то, вот, такой, период распространения веры христианской — он немножко остался позади? Ну, широкого распространения, я имею в виду... и сейчас уже всё это как-то происходит более кулуарно, более... так... спокойно... и... вот, не тревожит ли Вас это, как верующего человека? Что Вы, вообще, об этом думаете?
С. Дубинкин
— Я даже не скажу, что думаю... а нашёл ответ на этот вопрос.
О. Игорь
— Так...
С. Дубинкин
— Конечно, он меня очень беспокоил. Мне, например... уже в этом году будет 20 лет, как возглавляю я книгоиздание Данилова монастыря...
О. Игорь
— А, ну, вот... как раз, те самые 20 лет...
С. Дубинкин
— И, конечно, я помню очень хорошо 2008 год — начинался спад, как раз... мировой кризис с этим связывали. Потом — 2014 год, когда мы стали подниматься, можно так сказать, в политическом и геополитическом плане... тоже какие-то находились... спад. Потом — ещё спад, и... конечно, это пугало... думаешь, что, видно, книга уже уходит в прошлое!
Но, тем не менее, ответ находился очень близко. Я, помню, сделал книгу Иоанна Златоустого — там двенадцатитомник, и там Лопухина есть предисловие... по-моему, было к этому тиражу дано... о духовных подъёмах и духовных спадах в православной литературе. И он писал: «Вот... раньше мы издавали книги в переплёте, а сейчас, вот, у нас был духовный спад... и, вот, до 1812 года, когда книгоиздания... были брошюрки. Но, после победы над Наполеоном... где-то, с 20-х годов... начинался духовный подъём, и мы издавали большое количество книг.
Но, вот — отмена крепостного права... либеральные ценности выходят на первый план, и опять идёт спад продажи духовной литературы».
Вот, он просто, так, анализировал очень интересно...
И, как раз, уже к царствованию Александра III, когда у нас «два друга — армия и флот», опять начинается духовный подъём... ну, он связан с духовным подъёмом народа... подъёмом духа, и, соответственно, духовной литературы.
«И, вот, сейчас, — говорит, — в конце XVIII века, мы выпускаем замечательное двенадцатитомное издание, потому, что оно сейчас уже востребовано и люди просят...»
О. Игорь
— В конце XIX-го...
С. Дубинкин
— Да, в конце XIX века.
Вот, поэтому, я, наверное, отношусь к тому, что духовный подъём был и в конце Великой Отечественной войны — потому, что такой был большой объём самиздата, ослабление давления прессы на Церковь, открытие Семинарии в Троице-Сергиевой лавре, Академии. Ну... закономерно... могу сказать так, что потом был, всё-таки, духовный спад.
В 90-е года, когда все пришли в храмы, и были очереди... невозможно было войти в храм — это был тоже духовный подъём, и люди уносили... я помню, в конце 90-х — начале 2000-х, я приходил в одно издательство — с рюкзачком. Книжки были недорогие, деньги были, и я уходил, унося полрюкзачка книг...
О. Игорь
— Я тоже это помню очень хорошо! Я тоже приходил с рюкзачком...
С. Дубинкин
— Да... И, вот, я был очень расстроен, когда, вот, в 2000-х годах, в конце особенно — вот, такой идёт спад. Но... вот, у Лопухина всё это объяснено — пожалуйста... да? У народа — есть духовные спады и духовные подъёмы. Невозможно всё время гореть. Огонь, иногда, чуть затухает... иногда бывают только угольки... а потом его раздувает ветром, подбрасывают дрова — и он опять горит.
Мне кажется, это как вера у человека, так же и книгоиздание — всё очень... единая материя, такая, духовная.
О. Игорь
— То есть, Вы смотрите на это философски... это очень утешительно.
Сергей... немножко тогда, если можно... к Вам обратимся, к Вашей личной истории.
Вы, я так понимаю, из творческой семьи... у Вас родители были связаны с кино, ведь, да?
С. Дубинкин
— Да.
О. Игорь
— Вот... и сами Вы тоже учились на эстрадно-режиссёрском, по-моему, факультете...
С. Дубинкин
— Эстрадно-дирижёрский.
О. Игорь
— Вот... и потом, собственно говоря, Вы занялись музыкой, основали группу «Гелиос», которая была достаточно известной, её песни были на слуху в 90-е годы, в начале 2000-х... выходили и видеоклипы, и альбомы вы записывали. Но вышел, насколько я понимаю, только один альбом... вот, в 90-е годы... «Половина первого» — был такой...
С. Дубинкин
— Первый альбом у нас был германский — мы ездили в Германию, с англоязычной программой... это 90-е годы! Период розовой влюблённости во всё европейское... как бы... это было присуще многим музыкантам.
Поэтому, было два альбома — один англоязычный, и, вот, в 90-х годах уже... в конце 90-х... русскоязычный альбом, который у нас попал в чарты...
О. Игорь
— Ну, да... вот... и, конечно, хочется спросить, каким образом этому соприсутствовала вера... то есть, в какой момент она появилась... и, может быть, в связи с чем? Хотя, не всегда на этот вопрос легко ответить — в связи с чем появилась вера? Она, иногда, как-то сама, вот, появляется в человеке... Ну, в общем, если можно, вот, на эту тему немножко расскажите, как это всё было?
С. Дубинкин
— Вы очень хорошо сказали, что вера появляется сама. Вот, в Вашем вопросе есть очень чёткий вектор.
Вот, иногда говорят: как человек пришёл к вере? И человек задумывается: как я пришёл к вере? Вот.
А, на самом деле, «без Мене не можете творити ничесоже», как сказано в Евангелии, и «никто не приходит к вере, если не захочет Отец Мой Небесный». Поэтому, человека к вере может привести только Сам Бог. А — каким образом? Я считаю, что это не единомоментное свершение: «Меня Бог привёл к вере, и я теперь нахожусь в вере». К вере мы идём всю жизнь. Спотыкаясь, вставая, открывая новые горизонты... закрывая какие-то открытые двери, куда ты не входишь... ну, у всех это по-разному.
У меня начиналось... бабушка у меня была верующая... она мне давала просфорочку... в комнате были иконы... я носил крестик... я мог перекреститься. В храм ходил традиционно: Рождество, Пасха, освящение куличей... ну, было, такое, приятное всегда ощущение от храма. Но я не был... скажем... верующим человеком или, тем более, прихожанином.
Ну, вот, эти... походы в храм с детьми — это, всё-таки, оставляет какой-то след, но не самый главный момент.
Ну, в армии — тоже, можно сказать, веры не было, кроме, как крестик, который был подшит на гимнастёрке изнутри — потому, что... советская армия... группа советских войск в Германии... нельзя было, запрещено тогда...
О. Игорь
— А Вы в Германии служили?
С. Дубинкин
— Да.
Вот... помню такой момент в своей жизни — когда я, после армии, пришёл — и в Подмосковье я потерял крестик. Мы там отдыхали... что-то... и, вот, я, с таким сокрушением, ходил по всем тропинкам, искал... потому, что крестик был подарен бабушкой, которая умерла, и для меня это была такая память... и... вот, наверное... было первое такое сожаление, что я — такой плохой человек, и не мог сберечь её подарок.
Ну, а дальше, как Вы сказали... вот, это началось — институт музыкальный, потом группа... игра... ну, здесь веры было, конечно, мало. Иконы у доме висели, но... понимаете... как любой молодой человек — он движется, у него какая-то цель... хотя... цель заканчивается именно тогда, когда начинается вера. Потому, что цель у жизни — это Бог. Да? И, вот... как Пьер Безухов, который рассуждает потом, после плена: «Я стал свободным человеком — мне не нужна цель! У меня теперь есть Бог», — замечательные слова!
К. Лаврентьева
— «Вечер воскресенья» на Радио ВЕРА.
Напомним, что у нас в гостях Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник». Режиссёр, основатель и автор песен группы «Гелиос».
У микрофонов — дьякон Игорь Цуканов, и я — Кира Лаврентьева.
Сергей... интересный момент, когда Вы оставили активную работу в группе и занялись книгоиздательством. Вот, тут, конечно, вопросы возникают, когда читаешь Вашу биографию. Вы занялись серьёзно, крепко... издательство «Даниловский благовестник» я помню ещё в Сибири — я любила очень покупать книжки Вашего издательства. Тот самый рюкзачок, о котором Вы говорили, говорил отец Игорь, я носила в городе Красноярске, и покупала, в том числе, книги Вашего издательства. Поэтому, для меня особенно трепетно и радостно сегодня видеть Вас в этой студии — потому, что... как-то, вот... Вы мне очень по душе, честно говоря, и со своими книгами прекрасными, со своим трудом, вот, этим!
Но и группа «Гелиос» — она же была на слуху. Она на слуху и сейчас. И, я так понимаю, что Вы возобновили работу над ней давно... в таком... плавном режиме. Может быть, не таком активном, как в начале 90-х годов, но Вы над ней работаете. В 2025 году планируется, опять же, выход каких-то новых песен.
Ну, вот, очень интересен, вот, этот переход от группы к издательству! Вот, что это такое — это кризис... это перемена ума, та самая «метанойя»... почему Вы взялись за издание православной литературы?
С. Дубинкин
— Ну... по поводу кризиса и музыки я скажу так. Кризиса у нас не было, были у меня большие долги финансовые — поскольку, работа в шоу-бизнесе... а работали мы, в такой, очень плотной десятке наверху... ну, и, поэтому... это была одна из причин. Вторая — я женился, и жена, через какое-то время... полгода, наверное... пришла и сказала: «Я не хочу, чтоб ты там играл. Вокруг тебя там...
К. Лаврентьева
— Женщины!
С. Дубинкин
— ... да... Ты им всем... я, вот, не хочу — и всё! Вот, давай с тобой поговорим...»
К. Лаврентьева
— Ничего себе!
С. Дубинкин
— Ну, вот, такое, вот... и, плюс, долги... ну, надо идти работать... и жена не хочет... поэтому, я принимаю такое решение.
Не все меня поняли, все обиделись... «Ну, ты что?! Такой взлёт — и ты уходишь?»... и, поэтому, я ушёл. Не выкладывая никуда в Интернет... ничего... вот, кроме... было у нас два альбома — один lp, другой сd... и мы так и остались.
Но... до книгоиздания... я не мог шагнуть из музыки — в книгоиздание!
У меня было два этапа. Это — около 6 лет работы в бизнесе, в нефтянке, можно так сказать, коммерческим директором — такая моя последняя должность была. Поэтому, в плане организации, и в плане понимания работы каких-то механизмов в организации, я понимал.
Но, вот, здесь — две вещи взаимосвязанные. Именно там я познакомился с человеком... У меня был водитель, Иван Васильевич. Я говорю: «Иван Васильевич, чего ты Вы кашляете... — он ехал в машине и кашлял, — Простудились, что ли?» — для меня это было удивительно, потому, что мы работали в корпорации, нам делали всегда прививку от гриппа, и я не болел пять, шесть лет — я не знал, что такое кашель, грипп, температура. Мы все прививались, и считалось, что... ну... если человек кашляет, значит, он не привился... как это?
Он: «Да, нет... я не прививаюсь... ничего... — и он такую фразу говорит — Ничего! Значит, Господь любит, раз я приболел».
И, вот... я еду до дома на машине, на заднем сиденье, и думаю: я не болею... меня Господь-то... не любит?
И, вот, на самом деле — это был, такой, серьёзный вопрос! То есть, я чувствую: всё хорошо у тебя, есть деньги, есть работа, водитель... ты коммерческий директор... но вот — он заболел, и его Бог любит! И я где-то в душе сказал: «Господи, Ты меня не любишь!» — вот, я это почувствовал.
Ну, что вы думаете... я, конечно, через какое-то время тоже переболел... но у меня очень быстро обнаружилось, что у отца — онкология. Где-то я через полгода об этом узнаю — IV степень, делали операцию, после операции, сказали, проживёт 2-3 месяца... и я ухожу с коммерческой работы — заниматься им. По врачам... мы даже летали в Новосибирск... я пытался спасти. Я не возил по святым местам — папа сам ходил Причащался, всё... Я, конечно, искал врачей, светил... как это всё можно изменить... и для меня это было очень... вот, тогда — главное: помочь... помочь... И я ему старался не говорить, что он очень... смертельно болен. Хотя, он всё это понимал.
И, вот, это — было для меня, наверное... такая Встреча с Богом. Потому, что, когда отца не стало, я у могилы... все уже отошли... я... как он, в своё время, делал, когда приходили мы к бабушке... я дотрагиваюсь до могилы, прошу прощения у отца... и, вот, чувствую я — удар... Вот, я не знаю, можно об этом рассказывать или нет... я чувствую — удар, такой, в грудь! Что это было — я не знаю. Но мне было страшновато. Вот, такой удар в грудь...
Ну, и на поминках... я пригласил моего дядю, папиного троюродного брата, схиигумена Рафаила — он в Даниловом монастыре был. Мы с отцом Рафаилом только по телефону, и изредка — какой-то вопрос раз в несколько лет. А тут он приезжает. И на отпевании он был в храме у нас, и...
Я говорю: «Отец Рафаил, батюшка, дядя Паня... ну, что, вот, мне делать-то? Отца не стало...» Он мне говорит: «Читай Псалтырь, и молись за него».
И, вот, я 40 дней... я ушёл с работы... сестра, я, мама — мы ездим 40 дней по монастырям — по московским, подмосковным, читаю Псалтырь — каждое утро по кафизме, вместе с ними, стоя, ничего не понимая... потому, что там очень много же каких-то вещей непонятных. Он мне говорил: «Ничего... Господь поймёт, ты читай».
И, вот, наверное, вот, эти, вот, 40 дней без отца — они и явились, вот, тем самым воцерковлением, которое, может быть, постепенно и начало совершаться.
Ну, и... вот... я уже не мог вернуться в коммерческую структуру — не буду вам говорить, почему, и как там работают, и какие грехи берут на душу люди... вот... и мне помог мой друг, мой тесть, он устроил меня в православный аналитический журнал «Русский предприниматель», и я благодарен руководителю, который потом, через несколько лет, меня познакомил с наместником монастыря, и я стал помогать издательству бескорыстно. Но потом мне, вот, владыка предложил перейти и возглавить издательство.
Я был, конечно, напуган таким предложением, думаю — я ж ещё молодой, как мне в монастырь? Надо ещё... попозже... я готов приезжать помогать, но быть в монастыре, когда тут... такие люди... всё...
Я — к батюшке своему: «Отец Рафаил, что делать? Мне предложили быть директором... я как-то...» — он, так, спокойно говорит: «Ну, и что? Господь протягивает тебе руку. А протянет ли Он второй раз, я не знаю...» И я понял, что от протянутой руки нельзя отказываться.
Так, что, переход в издательство был через такие, вот, два этапа. Через бизнес... коммерческий... и через аналитический журнал, когда я был знаком уже, так скажем, с издательской деятельностью.
И, вот, то, что, Кира, Вы спросили — как мы работаем с книгами — ну... дружно! Стараемся... дружно, соборно выбираем темы, анализируем рынок... Ну, я, вот, говорю слово «рынок» — потому, что... ну, где продаётся книга — это всегда рынок: будь то иконная лавка, будь то полка светского магазина, или ещё где...
Поэтому, работа движется. Вот, при мне — двадцать лет, до меня существовало издательство уже тоже около десяти лет... так, что мы... слава Богу... я считаю, что, отчасти, на своём месте. И одно другому не мешает — ни музыка, ни кино... оно... дополняет просто... всё вместе.
О. Игорь
— А сейчас — какая литература, на Ваш взгляд, нужна на этом самом рынке православной литературы? Как меняется... что ли... вот... тематика... если она меняется каким-то образом? Вы же не только переиздаёте то, что раньше выходило, Вы же и новые книги выпускаете... вот, как Вы выбираете, что именно выпускать?
С. Дубинкин
— Есть грустная нотка. То, что раньше православные люди... не без подачи книги «Несвятые святые», «Живый в помощи»... художественные книги, да... художественная литература... стала появляться эта художественная литература — отец Ярослав Шипов, Олеся Николаева, и так далее... люди покупали, читали, и это было, определённого рода, воцерковление. Я встречал своих родственников, которые работали на светских... они мне говорили: «Слушай, а ты не читал „Несвятые святые“? Отличная книга такая... отличная книга...» Я говорю: «Ну, хорошо...»
К. Лаврентьева
— Отец Александр Торик «Флавиан»...
С. Дубинкин
— Да, да...
К. Лаврентьева
— ... там была целая история!
С. Дубинкин
— И, вот, сейчас... «Юлианна» Вознесенской... помню, эта книга... мне подарили...
К. Лаврентьева
— А «Приключения с макаронами»?
С. Дубинкин
— ... «Посмертные приключения...»: «Ой, прочти! У нас вся фирма... мы все воцерковились и пошли креститься...»
Ну, а сейчас, к сожалению — почему грустная нотка, — люди всё дальше и дальше отходят от художественной литературы. Потому, что здесь нужно — свободное время. А как сказали... ну, аналитика светских сетей говорит: раньше приходила женщина домой — она открывала книгу... она, там, вязала... она покупала такие книжки, брюшюры, как правильно вязать, как выкраивать... а сейчас это всё есть в интернете. Вот, они приходят — и в соцсетях. Поэтому, времени на художественную литературу, к сожалению, не остаётся. И, вот, этот сегмент — он всё больше и больше уходит из православной литературы.
А остаётся то, что незыблемо, конечно — это Писание, Евангелие, это Псалтырь, святые отцы — уже в меньшей степени...
Я анализирую этот вопрос: почему раньше книги серьёзные выпускались больше? Неужели сейчас народ так оскудел духовно, что покупают только Псалтырь, акафист, Евангелие... а остальным — вот, просто, не хватает времени... не интересуются?
Вы знаете... вот... я, разговаривая с другими издателями, пришёл к выводу, что... и вспоминаю, что в 90-е года, даже в начале 2000-х, очень часто было — на проповеди вы слышали священника, который цитировал что-нибудь из святых отцов, и обязательно говорил: «Купите, почитайте, вам это нужно». И, вот, к середине 2000-х, я таких проповедей больше не слышу.
Вот, когда священники рекомендовали, говорили, что «вам нужно читать», этим заниматься, люди, конечно, прислушивались к этой проповеди, и шли и покупали такие книги. Сейчас, к сожалению, книги живут сами по себе, проповеди — они... тоже живут сами по себе. Это — одна из таких, вот, сторон, которую, к сожалению, мы не можем вернуть, как бы мы этого ни хотели.
Поэтому... какие книги? Ну, я, вот, вам назвал основные — то, что человеку необходимо.
Вот, он воцерковился — что ему нужно? Конечно, нужна ему Библия... чтоб был Новый Завет, Апостол... чтобы он это читал — хотя бы, по маленькой главе, по одному зачалу в день... потихонечку привыкал к этому... привыкал и... внедрялся... приближался к Богу...
О. Игорь
— Начинал осмысливать...
С. Дубинкин
— Остальные книги — это, скорее всего, книги про Великий пост, о Праздниках... какие-то апокрифы люди любят купить, почитать...
У нас в Даниловом монастыре очень сильно было развито направление такое — социальное. То есть, мы делали книги на очень актуальные темы — духовник... куда уходит духовничество в определённых периодах... кто такие экстрасенсы и как они могут испортить человека... что такое ругань... отчего она, почему... алкоголизм... причины, как это... то есть, вот, такие книги, которые тоже людям были необходимы. Но, и то — эту нишу сейчас очень сильно занимают социальные сети. Ты открываешь интернет, что-то находишь, видишь... да, конечно, там это не священник тебе советует... советуют совершенно другие люди... но человек не вникает — ему нужен быстрый ответ на его быстрый вопрос... вот, сию минуту, здесь и сейчас.
О. Игорь
— «Вечер воскресенья» на Радио ВЕРА.
Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», автор и режиссёр целого ряда документальных фильмов на историческую тематику, и основатель и лидер группы «Гелиос», автор песен этой группы.
У микрофона — Кира Лаврентьева, и я — дьякон Игорь Цуканов.
Мы вернёмся в студию, буквально, через несколько секунд.
Не переключайтесь!
К. Лаврентьева
— Ещё раз, здравствуйте!
Программа — «Вечер воскресенья».
В студии светлого радио — Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссёр, основатель, лидер и автор песен группы «Гелиос».
У микрофонов — дьякон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Сергей, как режиссура пришла в Вашу жизнь? Вы — настолько многосоставный человек с прекрасными какими-то ипостасями — и режиссёр, и лидер группы, и книгоиздатель... давайте, вот, подсветим немножко, вот эту сторону Вашей жизни — узнаем, как Вы пришли к этому, почему, что побудило... какая, самое главное, мотивация?
С. Дубинкин
— Ну... я пришёл, наверное, к этому через грустную страницу своей жизни — со мной развелась жена. Ну, наверное, потому, что я стал неофитом, и, как сказано у святых отцов: если кто-то в семье становится святым, остальные становятся — мучениками. Наверное, это, может быть, было про меня — где-то перегибал... ну... в общем... в чём-то становился неудобным... не скажу, что невыносимым... неудобным человеком.
И я, возвращаясь, где отдыхал всё время... под Вязьмой, там, деревня такая Телепнево... я с мамой туда приехал... там её троюродная сестра, которую давно она тоже не видела — больше двадцати лет... и, вот, мы встретились.
И я пошёл гулять... там было такое место, где был взорван немцами храм. Был взорван храм — и этого места я не нашёл, потому, что уже всё поросло деревьями, и так далее. И мне так было... я вижу где-то кладка... а уже — осиновый, такой, лес стоит... и... почему-то я отвернулся... у меня было желание этот лес расчистить, и поставить, хотя бы, там Поклонный Крест. Ну, такое, вдруг, возникло желание.
Я познакомился там с одним батюшкой, который на местах боевой славы... там же был «Вяземский котёл»... он ставил Кресты у всех сражений, где погибали наши роты, взвода и дивизии — там, ведь, погибло... было взято и в плен много, и погибло 4 армии, и 5 дивизий Московского ополчения, в одной из которых — в Ростокинской — был мой дед.
И, вообще, Вяземский котёл... Вяземское сражение — это как прообраз Бородинской битвы. Вроде бы, как — проиграли всё... но как же мы проиграли? Мы же отступили, мы же сдали Москву, но там он переломал хребет Наполеону... Кутузов... и он это один знал, а остальные все его за это... немножечко ругали. А он один понимал, что он говорит... он ещё говорил: «Они ещё будут есть конину у меня...»
Так, что в Вязьме произошло... триумф... как сказать... духа, подвига людей.
И, вот, я ставлю этот Поклонный Крест. А потом мне мой батюшка говорит: «Ну, надо какой-то там поставить...» — кто-то мне говорит, часовенку... а отец Рафаил благословил ставить храм, деревянный.
И, вот, тоже была встреча с Богом. Я говорю: «А как ставить-то?» — ну денег, конечно, всё-таки, надо... там... храм! Всё... фундамент... и отче мне говорит: «Ну, ты помолись!» — вот, этот совет всегда духовный: помолись! Думаешь: «Ну, конечно, помолюсь... а деньги-то где взять?» — и я, вот, помолился. И, вот, так Господь сподобил... я не буду рассказывать эти перипетии... появились люди, и... встреча была очень интересная... и, вот — там я построил храм.
И, пока строил храм, у меня было желание снять, всё-таки, кино про Вяземский котёл. Потому, что это была секретная информация, 50 лет под спудом лежала... считалось, что это операция, где погибло очень много армий... и, такая страница — она никогда не выносилась на...
О. Игорь
— Как бы, не славная...
С. Дубинкин
— Да... не славная страница войны...
О. Игорь
— ... якобы...
С. Дубинкин
— Вот... и я... до этого, познакомился с замечательным режиссёром — Алексеем Денисовым. Мы делали картину «Батюшки особого назначения». Он был режиссёром, я был автором идеи, продюсером фильма. И я предложил ему снять про Вяземский котёл. Но, к сожалению, в те времена эта тема была... это был 2010 год... 2009 год... у нас была дружба с Германией, и поднимать... выносить из шкафа скелеты не хотелось никому.
Вот... мне пришлось снимать этот фильм... думаю: буду искать другого режиссёра. Но никак не мог найти.
И, вот, я помню, я выхожу из метро, очень расстроенный — потому, что я не могу найти человека, который будет делать эту работу. И... вот, я почувствовал внутри такой, вот... такое было... несколько о жизни... как отпечатанная мысль в голове... ну, не голос: «Снимай сам».
Я пошёл к духовнику. Не знаю... у меня была мысль такая: как я буду...? я же не работал в кино. Но он говорит: «Учись».
И, вот, я...
О. Игорь
— ... пошли учиться на режиссёра.
С. Дубинкин
— Да. На режиссёрские курсы поступал в Тишинский, к Фомину на факультет. Ну... не благословили. Потому, что нельзя — в монастыре работать, учиться... Я потом пошёл на... такие... вечерние курсы — Александр Наумович Митта, и там заканчивал свою режиссуру.
И, вот, снимал первую работу. С двумя съёмочными группами. Сначала мне всё не понравилось. Вот у меня — и съёмочная группа, и сняли фильм, смонтировали... у меня было несколько режиссёров, которые отсматривали... говорили: «Слушай... вот, так не снимают!» — а другой говорит: «Нет, ты оставь — это здорово!» — я оставляю, как есть. И, вот... конечно, такое испытание медными трубами — когда твой фильм попадает на конкурсы, и...
О. Игорь
— ... получает гран-при.
С. Дубинкин
— Да. Вместе с Шахназаровым. Он получает гран-при за «Белый тигр», а я получаю за «Вяземский котёл». Вот. Это — международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова.
Вот... поэтому, в кино, вот, был такой... неожиданный заход. Совершенно тоже не хотелось...
Ну, и, после этого, через какое-то время, я... ну, как... надо снять о князе Данииле Московском. Очень много съёмочных групп приезжают, снимают, как обычно — что? Стены, рака с мощами, интервью какие-то, история монастыря, как он восстанавливался, и, вот — все фильмы, как фильмы-близнецы, только в разное время. А про личность Даниила Московского — никто не снимал.
Ну, а что там? Там очень мало же в житии... вот... можно какие, вот, эти моменты... А тут ты узнаёшь, что человек, когда встал на престол... занял Московское княжество... сын Александра Невского он, Даниил Московский... в 11 лет. В 3 года детей тогда сажали на коня, давали меч, чтобы он почувствовал — это называлось «первый постриг». И, вот, в 11 лет, он начинает править Москвой — маленьким княжеством, самое маленькое ему дали.
Старшие братья ведут междоусобные войны после смерти Александра Невского. А Даниил Московский... как раз, тогда Батый разорил Киевскую Русь, и очень много народу переходит через Москву... шли, вот, этим путём... и он говорит так: «Оставайтесь здесь жить. Пять лет — не платите ничего. Рубите лес, ставьте терема, я ничего не буду с вас брать», — и люди остаются.
Проходит пять лет — когда уже надо платить. Он говорит: «Если вы приведёте кого-то ещё кого-то из дружинников, кто будет здесь, в Москве, то им — пять лет, и вам продлеваю на пять лет».
Я, кстати, у одного американского нашего эмигранта профессора вдруг услышал такую лекцию: «Основатель сетевого маркетинга — Даниил Московский, был такой князь в Москве...» — и, вот, он рассказывает эту историю, а она, действительно, есть! Представляете?
Вот, насколько Москва... и Москва из маленького, такого, городка... фактически, окраинного... крепости — она выросла в семь раз! Представляете? В семь раз выросла Москва! И, вот, уже сыну Иоанну Калите он оставляет уже прообраз Московского царства.
И, вот, я снял этот фильм — «Миротворец святой Даниил Московский».
О. Игорь
— Да, ещё, конечно, очень важна его роль, именно, как миротворца. Потому, что он своих братьев-то постоянно мирить пытался...
Вот, эта история, совершенно потрясающая, когда он открыл ворота татарам, когда они Москву могли либо порубить, либо... ну, вот, как-то... более-менее мирным образом через неё пройти... там много таких вещей, про которые...
С. Дубинкин
— Отдавал, как и Дмитрий Донской впоследствии — открывал свои закрома... люди были голодные, обездоленные...
О. Игорь
— Да, да...
С. Дубинкин
— ... он отдавал всё, что у него было. Пшеница... там... зерно... одежды... всё...
Ну, вот... Даниил Московский был миротворец, но он любил свой народ. А любить — это значит, защищать. И, вот, когда к нему пришли сведения, что князь Рязанский готовит поход на Москву с ордынским Темником — это значит, могло прийти около 20000 войска — что он делает? Он сидит в Москве, и ждёт, пока они нападут, чтобы отбиваться?
Он выходит, как, впоследствии, Дмитрий Донской, в дикое поле — и разбивает неожиданным ударом все эти войска. И берёт в плен Рязанского князя, и держит его не в темнице, а в теремах. Кормит. Но — на домашнем аресте.
К. Лаврентьева
— С уважением!
С. Дубинкин
— Вот, такой, вот, миротворец! Потому, что миротворец — это не просто... такой... знаете... валушок... китайский болванчик. Нет, это — человек, который должен правильно и адекватно, в определённый момент, когда угроза народу, принимать решение. Вот, Даниил Московский принимал такое решение. Хотя, руководствовался принципами своего отца Александра Невского. Главное — не навредить.
Вот... и, при нём, была тишина, конечно. Все и вспоминают-то Даниила Московского! Он умел договариваться, умел и... как говорится... за деньги договорился с Ордой, чтобы не нападали, и получил ярлык на княжение. Его... он, кстати, и Великий князь числится — потому, что новгородцы его приглашали на княжеский престол — великокняжеский. Но... какое-то время, он заочно там у них считался... но он не покидает Москву. Хотя, Переяславское княжество перешло... он мог бы переехать в Новгород, и был бы у нас большим... но он остаётся верен Москве. Вот, он — истинный москвич, никуда не переехал!
О. Игорь
— Да... чувствуется, что Вы... так...
К. Лаврентьева
— Глубоко знаете историю, да...
О. Игорь
— ... с ним... как-то, вот... такая духовная связь существует... и, такая, любовь в Вас существует к этому человеку. Данилов монастырь!
С. Дубинкин
— А история, вообще, удивительная вещь... если есть у кого возможность — получайте это образование! Потому, что... вот, мы делали эти фильмы уже... начиная с «Даниила Московского»... с Борисовым Николаем Сергеевичем — это кафедра МГУ историческая, история России до XIX века... вот... и мы с ним делали тоже фильм «Дмитрий Донской. Спасти мир»... И, как раз, это получился фильм... когда мы попали в Хмейнин... у нас база там... сели... и, вот, снимается этот фильм... я сделал сценарий... но мне очень хотелось сделать месседж — показать, что... почему это мы очутились в Сирии, а не сидим здесь и какого-то нападения ждём.
Дмитрий Донской выходит в поле! Он не то, чтобы собрал войско — и встал на границе Москвы, и: «Дадим отпор, если на нас нападут!» Нет! Тактика и стратегия войны — это военная хитрость, это умение предугадать удар. И, вот, получилось так, что... День независимости... да... 4 ноября — и фильм в прайм-тайм идёт...
К. Лаврентьева
— Чудо такое, да...
С. Дубинкин
— Мне было очень приятно, да, что такая работа, всё-таки, получилась. Вот.
К. Лаврентьева
— Ну... отец Игорь правильно подметил — без личных отношений со святым, конечно, такой фильм не снимешь... и так о нём рассказывать не будешь! Однозначно, есть у Вас какая-то... такая... связь с ним, да...
С. Дубинкин
— Ну, что Вы... Мы снимаем в музее Романовых... большая съёмка... деньги... у меня артисты играют... потому, что фильм был с игровыми съёмками, и играли два артиста — один из Казахстана приезжал ( Мамая играл ) Дуалет Абдыгапаров — замечательный артист...
И мы закрыли все датчики дыма — потому, что был киношный дым, нужно было снимать на хорошую камеру. Но где-то на втором этаже просочился, всё-таки, этот дым, и — звонок на пульт охраны, что... «выезжает пожарная часть... у вас задымление... государственный музей»... вбегает перепуганный директор музея, говорит: «Всё, съёмки останавливаем! Сейчас сюда едут...» Я говорю: «Да, вы что? У нас... вот... кино начали снимать!»
Ну, в общем, пришлось уговорить... И, вот, князь Димитрий — я всё время останавливался и просил его помощи. И, Вы верите... вот... помощь приходила!
Мы ехали на Куликово поле, на съёмки. Едем, и нам с камеры... и у меня оператор говорит: «Слушай, по-моему, компендиум не передали...» — а компендиум — это, такие, шторки, на объектив одеваются камеры, чтобы от солнца... солнечная погода... а мы уже уехали за 200 км от Москвы. Всё — съёмочный день потерян, деньги потеряны, всё... договорённость... как быть? Аренда оплачена — камер, съёмочной группы...
И я... вот, встаю на дороге... ну, чё — разворачиваемся, день потерян... и я просто, вот, обращаюсь к Дмитрию Донскому: «Что делать? Помоги... вот, ничего не могу сделать!»
И, потом, звонят директору этой службы, которая нам предоставляла камеры, и — оттуда выезжает человек на мотоцикле со скоростью 200 и больше км/ч... он мчится...
О. Игорь
— Везёт компендиум...
С. Дубинкин
— И, вот, мы приезжаем на Куликово поле... и, буквально, через 15 минут — влетает этот Бэтмен, который нам привёз компендиум... мчался... «Ну, я, ничего... летел!» — говорит.
Так, что, вот... я, когда мотоциклистов таких вижу, всё время вспоминаю... эти люди, ведь, когда-то могут, ведь, такое сделать, что не может сделать обыкновенная машина, и обыкновенное время — со скоростью звука, можно выразиться...
О. Игорь
— «Вечер воскресенья» на Радио ВЕРА.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», автор и режиссёр документальных фильмов, о которых мы сейчас говорили — фильмы и о Дмитрии Донском, и о князе Данииле Московском, и о Вяземском котле... также, Сергей — лидер и автор песен группы «Гелиос».
У микрофона — Кира Лаврентьева, и я — дьякон Игорь Цуканов.
Сергей, скажите, пожалуйста... возвращаясь к музыке... что изменилось, что ли, в Вашем отношении к, вот, этой, вот, музыкальной работе... ну... по сравнению, скажем, с 90-ми годами? Вот, сейчас... что для Вас сейчас — музыка? Как Вы воспринимаете свою работу — вот, уже глядя на это глазами христианина?
С. Дубинкин
— Ну, если вначале были песни... такие... о любви... даже где-то шуточная какая-то песня может прозвучать... прикольная... тогда это, в молодости-то, игралось... вот... и сейчас, как раз, мне продюсер говорит: «Надо выкладывать те песни, которые люди знали...» — вот... сейчас выходит, сначала, первый альбом. Но у нас... у меня была работа, которую мы делали около шести лет... мы репетировали... делали песни с моим другом — автор текстов, вот, особенно в последнем альбоме — Сергей Туренский... и... мы делали около десяти лет. Сначала мы записывали... мы сочиняли... репетировали... записывали... вот, около десяти лет шла эта работа.
Вот, о чём эти песни? Последние, так скажем... это альбом 2024 года, который появится в марте-апреле месяце только на музыкальных платформах. Это песни о... наверное... знаете, про что снимает режиссёр? Каждый. Фильм. Он снимает...
О. Игорь
— ... про себя.
С. Дубинкин
— Да. Вот... песни, конечно, обо мне. Но — они о жизни. О перипетиях. О том, как к этому относиться. Но... очень важно — что в кино, что в музыке — не допускать никакой дедукции.
Я очень часто вижу православные песни... ну, и сам слышал очень часто... не буду называть исполнителей... ну, там — прямолинейно... ну, это когда едешь в паломническую поездку в автобусе — вот, мы можем спеть эту песню. А, вот, когда уже на радио, для всех — это уже есть какая-то дедукция: то есть, я хочу... ты должен поверить... такая песня... ты должен уверовать... я сейчас тебе расскажу про Бога, и что это важно... Вы знаете, как человек реагирует очень часто?
О. Игорь
— Конечно...
С. Дубинкин
— Переключает — и всё. Ну, это же — не его, он же не понимает... Мы забываем, что к Богу — невозможно привести. Если Бог захочет, Он тебя приведёт. А ты, если начинаешь, от начала до конца, об этом петь — ты... делаешь какой-то, такой, дедуктивный эксперимент над человеком, а он — как реагирует? Он, просто, переключается...
О. Игорь
— То есть, от теории, как бы, идёшь какой-то?
С. Дубинкин
— Да, да... Поэтому, здесь... можно, ведь, другими словами рассказать. Можно... как художественная литература... акварель какую-то...
О. Игорь
— Поделиться своим...
С. Дубинкин
— Да, поделиться. Вот... Есть такие, например, слова... сейчас я их приведу:
«Как трудно мечтать, когда за тебя всё решается!
Опять засыпаю, уткнувшись в подушку лицом.
Аквариум жизни... бездарный полёт продолжается.
Дороги твои незаметно замкнулись в кольцо.
Мы крутимся белкой, находимся в вечном движении,
Жуём на ходу, не заметив, что это — стекло.
Мы сдвинули стрелки часов своего вдохновения,
Но что-то сломалось... и вверх не пошло».
Вот... Я, когда давал альбом некоторым продюсерам слушать, мне говорили: «Ну... слушай... ну, у тебя здесь так много драматургии! Это какая-то не музыка, а кино...» — а не знали, что я в кино работал. Ну, а мне было это приятно! Да, конечно, это, наверное, не тот формат, который идёт... молодёжный, там... на всех платформах, но, тем не менее, кому надо — человек, может, задумается. И я весь рад тому, что мы говорим не прямым текстом, а просто разговариваем с человеком — вот, так, вот... как в жизни бывает... разговор по душам. Он всегда имеет большую степень влияния, чем если я просто буду ему рассказывать евангельские принципы и доказывать что-то. Человек будет всегда упираться, всегда... особенно, молодой: «Ну, что... ты только хочешь поучить? Не-не... не надо...»
О. Игорь
— Да, и любой, мне кажется...
С. Дубинкин
— ... Учить нельзя.
О. Игорь
— А, вот, всё-таки... музыка, как язык... ну, или как средство выразительное... почему Вы, в принципе... что Вас вдохновило снова вернуться к этому? Потому, что я очень хорошо понимаю, что, в какой-то момент, ты оставляешь в стороне то, чем ты занимался в юности — особенно, если это, действительно, вот, связано с каким-то общим переосмыслением своей жизни... там... в контексте, например, веры.
Но... потом, иногда, действительно, происходит возврат. И, вот, что Вам здесь было дорого — в этом языке, в этом выразительном средстве... вообще, в музыке, как таковой? То есть... это оказалось тем, что Вы, на самом деле, любите? Или, может быть, там были люди, с которыми, вот, как-то хотелось возобновить работу? Или... вот, что здесь было первично?
С. Дубинкин
— У нас есть одна песня, которая называется «Нас держит нить» — это, такой, рефрен через всю песню. Нить — держит меня с моими друзьями. А — какая нить? Конечно, музыкальная... наше что-то прошлое, настоящее. Мы этого не теряем. И для меня не было никогда задачей быть кем-то очень популярным, и... чтобы известным.
Но... когда сейчас мы хотели вывести новый альбом... донести до слушателей... мне сказали, что надо и предыдущие альбомы — тоже чтобы они были. Ну, я... согласился... хорошо. Раз такое есть правило, пусть так будет. Но... мне сказали: но для того, чтобы альбомы были, ты должен поддержать — там будет презентация... ты должен выступить... всё...
И я, так... немножечко скептически ко всему этому относился. Но тут — умирает мой друг, бас-гитарист, с которым я очень долгие годы делал... замечательный, я считаю... один из лучших бас-гитаристов Москвы. И, вот, на меня его смерть очень повлияла... и я... у меня уже два человека ушло... и думаю: вот, там они меня встретят и скажут: «Ну, что ж ты... нас-то — бросил тогда? Ты же ушёл, а, вот, мы — остались, как твои дети-то... Вот, мы хотели с тобой — туда, вверх, а ты говоришь — нет. И мы остались одни».
Они пытались, находили себя в других амплуа... но остались музыкантами.
И, вот, я... в память, конечно... так и будет называться альбом — «Памяти музыканта». «Шаг к свободе. Памяти музыканта». Я там пишу песни, и... о тех людях, которых с нами уже нет. Но, поскольку у Бога все живы... чтобы эта нить продолжалась... я вынужден, просто, встать на их место.
Ну, и... в ограниченном каком-то, в определённом порядке. Не заниматься этим с утра до вечера...
О. Игорь
— Ну, понятно...
С. Дубинкин
— ... а вернуться к тому... пускай, это будет такая же отдушина, как... может быть... помните, у Шерлока Холмса, который играл на скрипке — в свободное от работы время... а, когда играл на скрипке, он всё время думал.
О. Игорь
— Хороший образ, кстати, да.
Сергей, что, вот, в Христианстве, в Церкви Вас сегодня особенно вдохновляет — вот, лично Вас... вот, именно, сейчас... Может быть, есть какой-то аспект... какая-то... не знаю... фраза из Евангелия, которая для Вас сейчас особенно значима... и что, может быть, наоборот, сегодня Вас расстраивает... ну, вряд ли, в Христианстве, но, может быть, в Церкви...
С. Дубинкин
— Ну... фраза моя... наверное, та, с которой мне говорил мой духовный отец, схиигумен Рафаил Шишков в последний год его жизни. Что бы я ни спрашивал, он мне всё время говорил одно: «За всё и всегда Бога благодари!»
Ну, я понимаю, что это, такой, постулат... такой замечательный, да... я, конечно, должен... и, вот, только ты потом понимаешь, что всё, что с тобой происходит в жизни — это не просто так. И ты должен, как тот же Пьер Безухов, понять, что ты — это часть того, что Господь с тобой делает... даже волос человеческий не падает с головы... а то, что с тобой происходит... или какие-то возникают внутренние движения — это всё идёт от Бога. Надо, просто, к этому прислушиваться внимательно.
И я... скажу так... что в Церкви есть главное, чего нет, может быть... в других аспектах жизни — есть свобода. Вот. Свобода.
Когда у человека есть цель, он несвободен. «У меня — цель!» «Какая цель?» — спрашиваешь. «Хорошая работа». «Ну, а дальше?» «Семья — цель». «Ну, а дальше?»... Да, хорошо, цель, вот — семья. Но это... это всё — этапы. Ну... чтобы была машина... там... квартира... всё... И, вот... цель — ограничивает человека. А когда человек приходит к Богу — он начинает просто жить. Потому, что... на место цели становится просто Бог! Вот, Он с тобой рядом... зачем мне какая-то цель? Чего-то достигнуть... что-то получить... что-то... всё — ты просто живи!
У нас, у главного редактора, очень много внуков. И один из его внуков маме говорит, его дочери... «Сынок, ты должен то-то и то-то сделать...» А он ей, три годика ему было, говорит: «Мам... давай просто поживём...» Вот, замечательная вещь, да?
К. Лаврентьева
— Замечательные слова, да.
С. Дубинкин
— Вот, устами ребёнка глаголет Истина! «Давай, — говорит, — просто поживём...» Давайте, не будем ставить себе цели!
Поэтому, Церковь даёт, всё-таки, человеку свободу. Это — главное. Потому, что Бог всегда рядом, и надо это помнить. Ты — всегда свободен.
А... Вы говорите, чем недоволен? Знаете... Церковь нас учит всегда быть всем довольными! Если ты чем-то недоволен, значит, в тебе ещё какое-то живёт... червоточинка... и ты должен с ней бороться!
Конечно, недоволен... конечно, осуждаешь... конечно, думаешь...
Я, от отчаяния, спросил один раз духовника: «Ну, что делать, чтобы не грешить?» — спрошу в лоб, думаю. Вот, важно же, да? Мы приходим на исповедь — те грехи... грех, как луковица... его много раз — очищаешь, очищаешь... всё это мы прочитали, всё знаем. Как не грешить?! Скажите! Я, вот, хочу спросить... у кого я спрошу? Вот — мой дядя...
Отец Рафаил мне в одну секунду ответил! Я думал ещё, он, может быть, скажет: «Ну, ты должен за собой следить... ты должен молиться... Иисусова молитва... конечно...» Ответил одним словом: «Молчать». Ведь, сколько мы произносим грехов!
А, вот, прошлым летом... Бывает так, что ты читаешь книги, и что-то пролистываешь, не понимая... или — проходит мимо тебя. И тут я у старца Паисия вдруг нахожу такие слова, которые открывают мне всё — что такое Православие.
И он там просто говорит: «Ну, что такое Православие? Что такое христианская вера? Это постоянное наблюдение за тем, что ты делаешь, что ты говоришь и что ты думаешь», — и это, кстати, третье — мы очень часто упускаем. Ведь, это очень важно: то, что ты думаешь, то ты и будешь говорить и делать, таким ты станешь.
К. Лаврентьева
— Да...
С. Дубинкин
— И мне это, прям... открылся космос — ещё один! Поэтому, к вере — можно идти всю жизнь! Вот, идти — и тебе будут всё время открываться двери! Один коридор прошёл... пролёт... второй... и тебе, всё время, открываются — двери, двери, двери... и ты, всё время, идёшь.
Так, что... вот. Я не скажу, что чем-то я недоволен. Чем-то я недоволен... Конечно, времена сложные... а когда они были простые? «Времена не выбирают, в них живут и умирают...» Поэтому, надо терпеть и смиряться.
Кутузов говорил: «У меня два богатыря — терпение и время», — и, вот, так он победил Наполеона. Хотя его все как ругали! «Мы дадим сражение, сражение!» Он говорит: «Не надо. Пусть... они сами погибнут». Вот, они отходили, а он... терпение и время.
Поэтому, пусть у нас будут эти же богатыри всегда рядом.
О. Игорь
— Спасибо Вам огромное за этот эфир!
Дорогие друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», лидер и автор песен группы «Гелиос», режиссёр-документалист, снявший, как минимум... три, да, фильма... или больше?
С. Дубинкин
— Три уже картины полностью.
О. Игорь
— Но, наверное, есть ещё планы какие-то дальнейшие?
С. Дубинкин
— Ну, как Бог даст! Здесь не будем загадывать...
О. Игорь
— Да, да...
Спасибо огромное за то, что Вы поделились с нами... вот... всеми Вашими интересами, так скажем, которые есть в жизни. И, конечно, вот, эта фраза о том, что... когда у человека есть цель, то это его ограничивает... а когда человек приходит к Богу, то человек становится, на самом деле, свободным... это... мне кажется... очень, такое, какое-то важное наблюдение, которое...
С. Дубинкин
— И мой опыт.
О. Игорь
— ... которое хочется взять, конечно, на заметку, и об этом подумать.
Спасибо, ещё раз, за этот воскресный вечер!
У микрофона сегодня с вами были Кира Лаврентьева и дьякон Игорь Цуканов.
Услышимся с вами, будем надеяться, через неделю в это же время, в следующее воскресенье!
С. Дубинкин
— Спасибо большое! Всех благ вам!
О. Игорь
— С Богом! Всего доброго, до свидания!
К. Лаврентьева
— До свидания!
С. Дубинкин
— До свидания!
Все выпуски программы: Вечер Воскресенья
Собор Рождества Богородицы, Уфа

Уфа — столица Башкортостана, республики в составе Российской Федерации. Город был заложен по приказу Иван Грозного в шестнадцатом веке как русская крепость на реке Белой. К середине девятнадцатого столетия Уфа достигла расцвета и стала центром православной епархии. В 1900 году Церковь здесь возглавил молодой митрополит Антоний (Храповицкий) — образованный человек и пламенный миссионер. Своё служение в Уфе владыка начал с возведения собора Рождества Богородицы. Он лично выбрал место для храма в центре города, на улице Приютской, сейчас она носит имя Кирова.
Из-за финансовых трудностей строительство церкви растянулось на много лет. Дело стало спориться лишь после того, как к нему подключился уфимский купец Никифор Патокин. Он вырос в бедной крестьянской семье, к зрелому возрасту нажил немалое состояние, считал его даром Божиим и не скупился на благотворительность!
Никифор Миронович оплатил стройматериалы для храма, труд каменщиков и отделочные работы. Понял, что денег не хватает и принял решение — продал всё своё имущество, чтобы завершить благоукрашение церкви. В дальнейшем Никифор Патокин до конца дней зарабатывал на пропитание, торгуя в разнос на рынке иголками и булавками. А собор Рождества Богородицы благополучно открылся в 1909 году. И прихожане на каждом богослужении молитвенно поминали имя щедрого мецената.
Храм получился великолепным. Особенно хороша была трёхъярусная колокольня с богатой звонницей. Эту часть церкви полностью разрушили безбожники после революции 1917 года. В основном здании при советской власти разместили сначала госпиталь, потом автомастерские, а затем — кинотеатр.
Лишь в 1991 году многострадальный храм вернули верующим. Прихожане восстанавливали святыню в течение многих лет и, наконец, церковь Рождества Богородицы обрела былое величие. Сегодня голубое строение с золотыми куполами украшает городскую панораму. Новая сорокапятиметровая колокольня возвышается над окрестными домами, свидетельствуя о духовном возрождении Уфы. В 2016 году патриарх Московский и Всея Руси Кирилл присвоил собору Рождества Богородицы статус кафедрального, то есть главного храма Башкортостана.
Все выпуски программы ПроСтранствия
Церковь Спаса-на-Нередице. Новгородская область

Фото: Irina Balashova / Pexels
В Новгородской области сохранилось тринадцать православных храмов, построенных ещё до нашествия хана Батыя в 1237 году. Один из них, посвящённый празднику Преображения Господня, стоит в полутора километрах от Новгорода, на холме Нередица. В народе его так и называют – церковь Спаса-на-Нередице.
Построил её в 1198 году новгородский князь Ярослав Владимирович. Так правитель почтил память двоих своих сыновей, умерших совсем юными. Внутреннее пространство церкви по велению князя украсили фресками. Иконописцы в девять ярусов покрыли росписями стены, столбы и своды. Они изобразили сцены из Евангелия, а особое внимание уделили теме Воскресения Христова. Эти образы утешали князя Ярослава в его горе.
В четырнадцатом столетии при храме Преображения был основан Спасо-Нередицкий монастырь. В его летописи было немало скорбных страниц. В шестнадцатом веке обитель пережила страшный пожар, в семнадцатом её разграбили шведы, а в восемнадцатом – Екатерина Вторая своим указом монастырь упразднила.
Но церковь Спаса-на-Нередице в невзгодах уцелела и стала приходской. Фрески под её сводами прекрасно сохранились. В 1867 году художник Николай Мартынов сделал их акварельные копии. Запечатлел он также и уникальные настенные изображения – граффити двенадцатого-шестнадцатого веков. Прихожане храма тогда оставили множество надписей с молитвенными просьбами под святыми ликами. Работы Николая Мартынова были представлены на Всемирной выставке в Париже и удостоились бронзовой медали. Это привлекло к Преображенскому храму общественное внимание и древние фрески бережно отреставрировали.
В начале Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, Новгород оказался на линии фронта. Под огнём немецкой артиллерии церковь, построенная князем Ярославом, превратилась в руины. Уцелела лишь одна шестая часть росписей.
В 1944-ом, лишь только Новгород освободили от фашистов, российские учёные сразу же начали восстановление храма Спаса-на-Нередице. В реставрации внутреннего пространства им помогли акварели Николая Мартынова и старые фотографии. В 1992 году церковь включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и признали ценнейшим памятником древнерусской истории и культуры.
Сегодня храм Спаса-на-Нередице можно посетить как музей. Он открыт только в сухую погоду, поскольку влажный воздух вреден для фресок. А на престольный праздник Преображения Господня, 19 августа, здесь совершается богослужение. Конечно, если в этот день нет дождя.
Все выпуски программы ПроСтранствия
Помочь обустроить дом для многодетной семьи, оставшейся без крова

Четыре года назад многодетная семья Ивановых эвакуировалась из Харьковской области, попавшей в зону боевых действий. У Людмилы и её супруга Андрея тогда родился четвёртый ребёнок — дочь Даша. С детьми на руках они спешно покидали родной дом, взяв самое необходимое.
На то, чтобы наладить жизнь в новом месте, ушли годы. Сейчас Андрей трудится на стройке, Людмила — в пекарне. Дети нашли друзей и занятия по душе. Старший, 16-летний Саша, увлекается машинами и поступил в училище на автомеханика. 12-летний Женя и 13-летняя Маша учатся в школе. Недавно Женя вступил в ряды казаков. Младшая Даша любит выступать перед публикой и любимым котом.
Прошлым летом Ивановы купили пустующий дом в рассрочку. За полгода супруги своими силами расчистили участок, провели канализацию, поставили туалет и постепенно обустраивают комнаты.
Родителям с детьми хочется поскорее привести новое жильё в уютный и домашний вид, но ресурсов не хватает. В доме до сих пор нет газовой печки, бытовой техники, некоторой мебели и предметов первой необходимости.
Этот дом — не просто стены, а настоящая опора в новой спокойной жизни. Обрести её помогает фонд «Ясное дело». Организация поддерживает семью все эти годы. Вы тоже можете присоединиться и помочь семье Ивановых на сайте проекта.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов