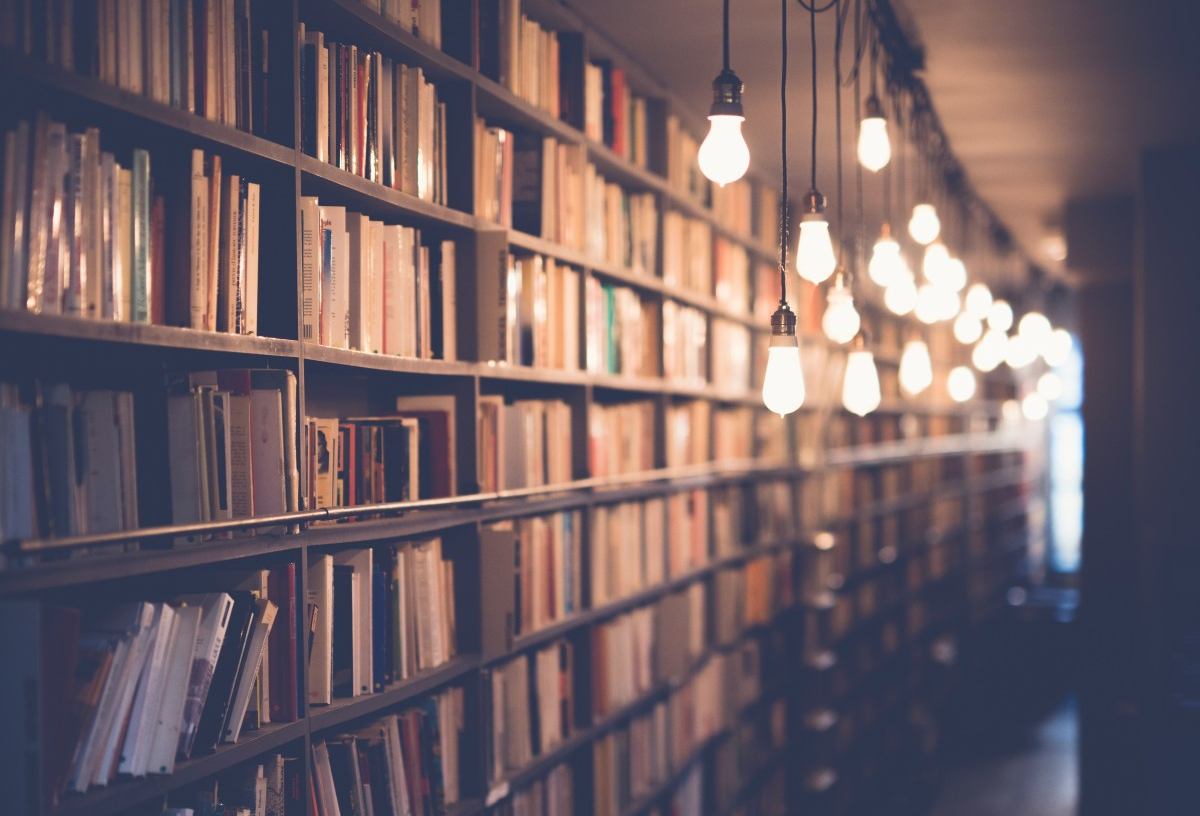
Гость программы — Павел Бойко, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, теологии и религиоведения Кубанского государственного университета.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Гегеле и гегельянстве в России. У нас в гостях доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, теологии и религиоведения Кубанского государственного университета Павел Евгеньевич Бойко. Здравствуйте, Павел Евгеньевич.
П. Бойко
— Добрый вечер. Здравствуйте.
А. Козырев
— Ну вот первый раз у нас в гостях представитель славной Кубанской философской школы. Я очень рад, что вы добрались до Андреевского монастыря, и мы можем с вами побеседовать, потому что мы это много раз делали в жизни, в самых разных ситуациях и на конференциях, которые у вас проходили. Я знаю, что у вас в университете на Кубани есть такая интересная группа исследователей, которые занимаются темой русского гегельянства. Действительно, казалось бы, где мы и где Гегель? Мы люди православные, у нас Россия, что называется, Святая Русь, а Гегель — философ протестантский, германский, может быть, связанный с какими-то влияниями западными. Но в то же время, если мы вспомним XIX век, особенно время славянофильских споров, западники, славянофилы, то тогда много было даже таких вот шуточных стихотворений, одно из них я позволю себе процитировать, Бориса Алмазова: «В тарантасе, в телеге ли еду ночью из Брянска я, все о нем, все о Гегеле моя дума дворянская». Вот почему и славянофилы, и западники думали о Гегеле, что им этот Гегель сдался, условно говоря, и какое это отношение имеет к судьбам нашей Святой Руси?
П. Бойко
— Вы знаете, я начну немного издалека. В истории мировой философии лишь некоторые немногочисленные народы принимали участие в разработке философских учений, разработке языка философии. После великой греческой эллинской цивилизации, (а философия — это изобретение греков), римляне внесли свой вклад, безусловно, и дальше это всего лишь несколько европейских народов. Это прежде всего Франция, великая французская философская школа, это Британия, ее традиции эмпиризма, это Германия, которая и пыталась создавать философию лейбнице-вольфианскую знаменитую, и, конечно, немецкая классическая философия. В прошлом году мы праздновали юбилей Канта, был прекрасный конгресс. И вот после Германии — это Россия, то есть у нас не философия в России, а русская философия, потому что она не просто унаследовала опыт мировой классической философской мысли, но и сама внесла мощный вклад в развитие вот этой мировой философии. При всем уважении к другим народам, нет ни испанской философии, хотя есть философы в Испании, нет итальянской философии, нет шведской, финской...
А. Козырев
— Я думаю, что они бы с вами поспорили — итальянцы, испанцы, они бы здесь возопили.
П. Бойко
— Я был бы рад узнать у них аналогичные учения, такие как, например, метафизика всеединства Владимира Соловьева или русская феноменологическая школа, или философия Ильина, это была именно философия русской мысли. Хотя, безусловно, я согласен с выдающимся русским философом Борисом Вышеславцевым, когда в своем труде «Вечное в русской философии» он говорит, что вообще философия — это общечеловеческая ценность, и что в этом смысле нет никакой узкой национальной философии. Сократ — плоть от плоти дух эллинского народа, но его мысль имеет значение для любого человека. Но, — добавляет Вышеславцев, — есть способ выражения мировой уже философии: вот этот русский логос, русский способ мысли, который объединяет родное и вселенское — тоже знаменитая была идея в русской философии у Вячеслава Иванова. Ярким примером этого выступает Алексей Лосев, которого справедливо называли последним представителем русской религиозной философии Серебряного века, последним русским уже философом. С одной стороны, мировая культура — это мировая классика, это Античность, это знания в латыни, греческой уже культуры. А с другой стороны, православный уже монах, монах в миру, глубоко русский человек, для которого, как он сам говорил, и Рихард Вагнер, его постановки в театре, и всенощная у него в Новочеркасске в храме были равноценными для него явлениями.
А. Козырев
— Ну, все-таки Гегель. Лосева, наверное, можно упрекнуть или, наоборот, похвалить за то, что он испытал гегелевское влияние, влияние феноменологии духа, но давайте мы вернемся к более раннему периоду в русской философии, ведь всегда считалось, что русское дворянское общество испытало влияние французов, и французский язык был родным для многих дворян, Пушкин переписывался с Чаадаевым на французском языке, Чаадаев написал свои «Философические письма» на французском языке, и вдруг какая-то прививка германского, где-то в 20-е годы XIX века, во многом благодаря, наверное, «Обществу любомудрия», Одоевскому, начинают обращать внимание на немецкую философию, и прежде всего на философию Шеллинга. А вот как пришел интерес к Гегелю, и почему вдруг Гегель оказался так созвучен широте русской души?
П. Бойко
— Я думаю, что здесь две ключевые причины. Во-первых, потому что гегелевская всеобщая диалектика мышления бытия, его абсолютный идеализм был результатом развития исторических форм философии, синтезом, снятием противоречия между рационализмом, метафизикой и эмпиризмом, то есть между французским и британским способами мышления, а во-вторых, гегелевская традиция логоцентризма, мы знаем его главный вывод в «Науке логики»: «Бытие в своей сущности есть понятие», или «Понятие составляет сущность события». Это логосное, логоцентрическое миропонимание глубоко созвучно византийскому духу России, ведь мы напрямую унаследовали от проекта Кирилла и Мефодия связь с эллинской культурой, с гераклитовским логосом, с сократовским вопрошанием, с платонизмом.
А. Козырев
— Гегель, если я не ошибаюсь, писал, что «вся моя диалектика — это осовремененный Гераклит».
П. Бойко
— Он пишет в лекциях по истории философии, что из философии Гераклита, нет ни одного положения, которое он не взял бы в своё учение. И я думаю, вот этот логоцентризм и привлекал русских мыслителей, и они видели, что здесь «и острый галльский смысл», помните, у Блока знаменитое: «... Мы любим всё — и жар холодных числ, и дар божественных видений, нам внятно всё — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...» То есть «острый галльский смысл» — это всё-таки рацио, это рассудок, и опыт, помните, и «опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг» — и Пушкин тоже прекрасно видел, что мы шли на синтез, нам был чужд какой-то однобокий взгляд на мир. Поэтому, я думаю, главная причина в том, что русские стремились к абсолюту, вот к этому логосу, им одностороннее эмпирическое или рационально-метафизическое мышление было тесновато.
А. Козырев
— Ну, вообще-то, судя по тому, что потом, в начале XX века возникает третий — «славянский ренессанс», как назвал его Зелинский, вот что было «вторым ренессансом»? «Вторым ренессансом» была немецкая философия, а ренессанс чего? Ренессанс Античности. Вы правы, когда говорите, что в философии Гегеля и вообще его современников снова воскресает дух эллинской философии, они как бы обретают вот эти философские истоки, идущие от греков, идущие от Гераклита, от Парменида, и, наверное, русскому сознанию, воспитанному на греческой православной традиции, это не могло быть чуждым, или, во всяком случае, не могло быть совершенно посторонним." В твоей новизне родная старина слышится«, как говорили старообрядцы Александру II после подписания указа об отмене крепостного права. Вот можно сказать про философию Гегеля: «в твоей новизне родная старина слышится», я прав?
П. Бойко
— Да, совершенно верно, и нужно также ещё понимать то, что ведь русские, они ни в коем случае не стремились к какому-то эпигонству, воспроизведению гегелевских учений, хотя, может быть, на первых порах какие-то элементы этого и были, а они стремились развивать дальше, они стремились усвоить то, что было сделано необходимого и Античностью, и европейской философией Нового времени, и немецкой классикой, от Канта до Гегеля, и идти дальше, тем более что и сам Гегель, и гегельянство в самой-то Германии мало кем понимались и воспринимались, он чувствовал, что чужд немецкому бюргеру, и в России он получил как бы вторую родину интеллектуальную.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор Кубанского государственного университета Павел Евгеньевич Бойко. Мы говорим сегодня о Гегеле в России, о причине и смыслах русского гегельянства, почему вдруг русское общество в 30-е годы XIX века так увлеклось Гегелем. Помните, Пушкин пишет о Ленском: «... Он из Германии туманный привёз учёности плоды», и замечает: «с душою прямо геттингенской». То есть вот образ русского денди, такого дворянина из какого-то захолустья. обязательно был связан с чтением немецких книг, немецкой философии. Но не происходит ли здесь какого-то очарования и последующего разочарования в гегелевской философии? Вы произнесли слово «всеобщее» — и действительно, гегелевская философия погружает нас во всеобщее, но потом, помните, Белинский написал Боткину: «Молох, который унёс моего друга Станкевича», они читали вместе Гегеля в Прямухине, в Бакунинской усадьбе. Станкевич от чахотки умер в очень молодом возрасте, по-моему, около тридцати лет. Вот почему это «всеобщее» становится молохом?
П. Бойко
— Есть замечательная книга Дмитрия Ивановича Чижевского «Гегель в России», она вышла в Париже в 1939 году, и он там очень тщательно, скрупулезно проследил влияние гегелевских идей в литературе, в публицистике, в поэзии, в иных формах русского духа, и пусть даже позитивистски, он просто вот, как позитивист, описал, опираясь на богатый эмпирический материал. Я думаю, что это было такое первое свидание, первая влюблённость, русская мысль была взволнована, она чувствовала интуитивно, что в этом есть что-то мощное, что-то важное, что-то судьбоносное для неё, что нельзя пропустить, но одновременно непонятное, одновременно до конца уже непостижимое. И когда русские люди, которые всё-таки преимущественно воспитаны в духе религиозного представления (мы знаем, чем отличается понятие от представления: «представление — это полумысль, получувственность», как говорит князь Евгений Николаевич Трубецкой в «Умозрении в красках»), когда они вдруг увидели, что красок-то там уже нет, они сняты, это уже мысль и по форме, и по содержанию, то им стало страшновато.
А. Козырев
— Флоренский, помните, в «Иконостасе» сравнивает православное мышление с иконой, католическое — с масляной живописью на холсте, а протестантское — с гравюрой, которая, вообще-то говоря, отпечатана на листе бумаги, и там два цвета — чёрный и его отсутствие, и всё, что может быть в их комбинации. То есть это какая-то субтильность, прекрасный замок, построенный на песке, который готов вот-вот рухнуть.
П. Бойко
— Вы знаете, есть прекрасный поэтический опыт Фёдора Ивановича Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье...», и там есть замечательные строки:
Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой —
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.
Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Ещё она не перешла порогу,
Но дом её уж пуст и гол стоит, —
Ещё она не перешла порогу,
Ещё за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь.
П. Бойко
— Это Тютчев показывает, видимо, трагедию семьи, он жил в Германии лютеранской некоторое время. Важно сказать, что для Гегеля в целом религиозный способ мышления продолжает свою жизнь внутри философского, что философия не отбрасывает религию, не убивает религию ни в коем случае, а наоборот возвышает её до уровня чистой логосности, поэтому он «протестант» в кавычках, и он сам об этом говорит в лекциях по философии религии, что — «да, я воспитан как лютеранин». Более того, он имел богословское образование профессиональное, закончил теологический институт, знал библеистику, знал патристику, все тексты, но он говорит, особенно в концовке лекции по философии религии, что вот это противоречие, этот раскол, который мы имеем на сегодня, религия не может его преодолеть, его решить, и только философия может сделать то, к чему нас подводит уже религия. Он поэтому и говорит, что «на сегодняшний день философы подобны жрецам, которые охраняют сокровища истины».
А. Козырев
— Он тоже философствует как бы в последний раз. Трудно себе представить философию после Гегеля. Гегель — это человек, который словно завершает философию, его система, она тотальна, она претендует на описание всего мира в целом, и зачем философия после Гегеля? У Соловьёва было такое ощущение, что Гегель как бы завершает философию.
П. Бойко
— В своей статье известной в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона он говорит: «Да, Гегель — философ по преимуществу, и дальше него в логическом смысле идти некуда. Если до Гегеля философия стремилась быть постижением сущего, то теперь само сущее стремится стать философией», — говорит Соловьёв. «Но, — добавляет он, как русский человек, — при этом самая философия есть высший способ познания». Высший способ познания по Соловьёву — религия, и поэтому мы с вами прекрасно знаем, что Соловьёв ратует за цельное знание, где объединены метафизика, позитивная уже наука и религиозная мистика.
А. Козырев
— Вера, разум и опыт.
П. Бойко
— Да. То есть русские мыслители вплотную подошли к синтезу, вплотную подошли к переходу религиозного уже мышления на философское, но дальше они побоялись сделать этот шаг, потому что им показалось, что это будет предательство религии, что это будет отказ от корней, от «родного пепелища, от отеческих гробов», как у Пушкина.
А. Козырев
— К Гегелю с некоторым юмором относились русские дворяне. Кажется, Герцен описывает, который очень увлекался Гегелем, как на вечеринках пили за все категории «Науки логики», а их там много, по восходящей, то есть за каждую можно пить отдельный тост, времени до утра точно не хватит. Но состояние, в которое ты повергаешься, конечно, спиритуальным его можно назвать только в определенном смысле слова.
П. Бойко
— Более того, есть свидетельство, когда жену Гегеля, Марию фон Тухер, спросили: «А что вы думаете о философии и о религиозности вашего мужа?» И она, услышав его философию, говорит: «Боже мой, с кем я живу!» То есть для правоверного лютеранина те вещи, которые он высказывал, казались кощунственными, потому что, еще раз хочу подчеркнуть: религиозное представление, если оно хочет остаться только религиозным представлением и не хочет проникнуться вот этой логосной энергией, конечно, отдергивается в сторону, что, собственно, и произошло с русскими уже мыслителями — они резко отвернулись.
А. Козырев
— А вот гегелевское всеобщее на философском языке — это может быть то, что на религиозном представляет Бог? Как философ мыслит всеобщее? Это то, что нужно всем, или то, от чего нам не убежать, не укрыться, чего не избегнуть, и отсюда возникает вот этот молох? «Я возвращаю вам, Егор Фёдорович, ваш старый философский колпак», — пишет Белинский, когда он понял, что, вообще-то говоря, отдайте мне моего друга Станкевича, Колю отдайте! И отдать может не молох, отдать может только Живой Бог, Которому можно молиться за упокой души, Которого можно просить, Которому можно каяться. А вот всеобщему можно каяться, ему можно молиться?
П. Бойко
— Ну, видите, само слово говорит за себя: то что общее всему, то есть это высшее первоначало, присутствующее во всём, везде и всегда. На языке искусства — это красота, вечная уже красота, прекрасная, на языке религии — Бог, и в христианстве Триединый Бог — это высшее определение Бога, дальше идти некуда, и на языке философии истина, то есть то первоначало, то всеобщее, которое лежит в основе всего особенного, единичного, приходящего, случайного. Здесь и платонизм, потому что это практически платоновский мир идей, космос, это и аристотелевский нус, его перводвигатель, мыслящее себя, мышление. И мы знаем прекрасно, почему его система называется «абсолютный идеализм», потому что он показывает, то, как абсолют реализует себя во разделах логики, природы и духа, то есть это фактически христианская Троица: Отец, Сын, Святой Дух, только изложенная не на языке религиозного откровения, а на языке логики, и такое своеобразное философское уже Евангелие. И в этом нет ничего антихристианского.
А. Козырев
— О философах часто говорят, что они пишут общую теорию всего, но русский мыслитель, священник Павел Флоренский, у него есть «Детям моим», замечательное воспоминание, где одна глава называется «Особенная», помните? И Павел Флоренский говорит, что его всегда интересовало в этом мире особенное, что-то такое уникальное, неповторимое, что вырывается из всеобщего закона, из каких-то закономерностей. Вообще-то говоря, чудо особенное, потому что у чуда нет закона, нет механики, нет какой-то логики всеобщей, чудо парадоксально.
П. Бойко
— Совершенно верно, ведь гегелевское, учение о понятии в «Науке логики» в себе содержит момент всеобщего, момент особенного и момент единичного, это структура силлогизма. И понятно, что, если мы уберем особенное, а тем более единичное, то это всеобщее превратится в абстракцию, в тот самый молох, в котором всё гибнет, всё тонет, всё уничтожается. Но это не гегелевское всеобщее, это превратно понятое рассудком всеобщее, которое либо разводит эти три момента по сторонам: всеобщее как будто только как всеобщее, особенное только как особенное, а единичное только как единичное, либо их сливает до неразличимости, но это противоречит христианскому учению о Пресвятой Троице. Каждая Ипостась Пресвятой Троицы равночестна, Они нераздельны и неслиянны.
А. Козырев
— Неизменны и непреложны.
П. Бойко
— Да, это Халкидонский догмат уже важнейший. У него как раз все это чётко выражено, и поэтому есть философская логика как начало философии — раз, философия природы как продолжение — два, и философия духа как завершение — три. Поэтому, нравится или нет, но такова логическая структура самой мировой философии за её 2500-летнюю историю развития.
А. Козырев
— А вот православное гегельянство возможно? Я вспоминаю, что, когда профессору Московской духовной академии Фёдору Александровичу Голубинскому митрополит Филарет (Дроздов) дал задание опровергнуть Гегеля, он взял ночь на подумать и потом сказал: «Вы знаете, я не берусь за это задание, потому что философия Гегеля так стройна, сложна и всеобъемлюща, что её невозможно опровергнуть каким-то софистическим трюком. Можно только попытаться построить другую такую же цельную антологию». Но это свидетельствует, конечно, о честности профессора, который был очень серьёзным философом и историком философии, и не мог: «чего изволите?» и выполнить приказ начальства просто так, ради того, чтобы получить премию или медаль какую-нибудь. Но всё-таки вот этот синтез православия и гегельянства, он возможен, на ваш взгляд?
П. Бойко
— Он не только возможен, но он и был реализован в русской мысли, потому что православие — это Вселенская Церковь, это классическое христианство, если так можно сказать, это христианство высочайшей богословской и философской культуры мышления, выше, чем католическая и уж тем более выше, чем протестантская, это классика, и в этом смысле слова, безусловно, философская классика в себя вот эту православную, восточнохристианскую, логоцентрическую, пасхальную, я бы даже сказал, культуру, конечно же, вбирает. Посмотрите замечательную статью Николая Бердяева, мы, кстати, с профессором вашего тогда факультета Виктором Ивановичем Шамшуриным открыли её в своё время, она была опубликована после смерти Бердяева в «Вестнике Парижского экзархата» в 1954 году, называется «Истина православия». Бердяев человек достаточно был внецерковный, его нельзя назвать религиозным апологетом, это свободный уже философ.
А. Козырев
— Он как раз был церковный человек, но при этом не канонический богослов, скажем так. Лично церковный человек.
П. Бойко
— Лично, да. Так вот, он говорит там очень простую вещь, что православие — это и есть всеобщее истинное христианство, потому что в нём наиболее полно проявляется благодать Святого Духа, вот это вот стяжание Святого Духа как цель жизни христианина, преподобный Серафим Саровский, стяжание Святого Духа — это гениальный «theosis», обо́жение.
А. Козырев
— Гегель призывал к стяжанию Святого Духа?
П. Бойко
— Конечно, у него же Дух как раз и завершает всю систему. И более того, философия в трёх формах абсолютного Духа — искусство, религия и философия, и он их рассматривает как одно целое, поэтому с этой уже точки зрения он православный человек.
А. Козырев
— Друзья, мы сегодня открываем с вами нового православного философа Георга Фридриха Вильгельма Гегеля, который, оказывается, как и Серафим Саровский, призывал нас к стяжанию Святого Духа, вместе с профессором Кубанского государственного университета Павлом Евгеньевичем Бойко, который сегодня у нас в студии программы «Философские ночи», и после небольшой паузы мы продолжим наш эфир на Светлом Радио ВЕРА.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, религиоведения и теологии Кубанского государственного университета Павел Евгеньевич Бойко. Мы говорим сегодня о Гегеле и о Гегеле в России, и попытались в первой части нашей программы немножко поговорить о славянофилах и западниках. Вообще говоря, ну западники понятно, они должны выбрать себе какого-нибудь кумира, ему следовать, учиться у него, и в этом смысле русское западничество — не исключение. А вот славянофилы, что им в Гегеле было близко, почему они так ценили Гегеля? И тот же Константин Аксаков, например, про которого говорили «хороший человек, но только Гегель его сгубил».
П. Бойко
— Вы знаете, есть статья Ивана Васильевича Киреевского, она практически ключевая, о возможности и необходимости новых начал для философии. Это такой манифест будущей русской философии, где он говорит об очень простой вещи, что задача русской мысли — соединить глубину и бесконечность святоотеческой мудрости по содержанию, но придать ей надлежащую разумную форму немецкой диалектики. То есть у Киреевского там, и мы потом видим продолжение этой мысли у Лосева в его «Диалектике мифа» практически, вот эта мысль, что нужно просто соединить истинную форму с истинным содержанием, что западная мысль, она отточила форму, но ушла от содержания, ушла от бытия, как сказал бы потом уже Хайдеггер.
А. Козырев
— Ну всё-таки Киреевский, в отличие от Константина Аксакова, упрекал Гегеля за рассудочность, за рационализм, и в этом плане для него Гегель был таким новым Аристотелем. Вот так же, как Хомяков критикует Аристотеля, так Киреевский критикует Гегеля.
П. Бойко
— Но это культурно-исторический факт, у него есть вторая статья о характере просвещения России и его отношении к просвещению Европы, где он отмечает, что русская культура пошла по пути платонизма, а западная культура, латинская, пошла по пути аристотелизма. Но, опять-таки, разделение мировой философии на платонизм, аристотелизм — это очень условные вещи, потому что неоплатонизм, которым восхищался всю жизнь Алексей Фёдорович Лосев, изучал уже синтез и того, и другого. Вот «Диалектика мифа», обратите внимание, то, чем заканчивает Античность: диалектикой мифа Прокла, Плотина, этим же заканчивает почти что и немецкая классика — Шеллинг, а Шеллинг оказал тоже огромнейшее уже влияние. И этим «заканчивает» русская философия Серебряного века, Алексей Лосев, тоже диалектикой мифа. Посмотрите, три разные цивилизации, три эпохи, но они типологически прошли те же самые циклы.
А. Козырев
-Ну вот Лосев всё-таки больше шелленгианец в своей «Диалектике мифа», чем гегельянец.
П. Бойко
— Больше даже уже неоплатоник. Он сам говорил: «Я православный неоплатоник, философ имени, числа, мифа, строгий логик и диалектик». Но тут, видите, включаются ещё культурно-исторические вещи, то, что, например, на языке уже Карла Юнга есть архетипы бессознательного, каждый человек впитывает с молоком матери опыт своей культуры, культуры, в которую он вырос, образовался и воспитался. Лосев воспитывался как православный человек, он родом с Новочеркасска, папа донской казак, он говорит, «помолитесь за казака», когда в 14-м году его могли отправить на фронт. Понятно, что умом, рассудком он в одной стихии, а сердцем он в этой уже культуре.
А. Козырев
— Вы с Лосевым почти земляки, вы кубанский, он донской — соседи, по большому счёту. Но вот Лосев не учился в советской школе, ему диамат не преподавали. Он сам потом вынужден был какое-то время как-то соотносить себя с этой марксистской традицией, но ведь марксизм — это тоже наследник гегельянства, и именно через марксизм мы узнавали о диалектике, о триаде «тезис-антитезис-синтез». Вот как можно объяснить тот факт, что гегелевская философия, которая, вообще-то говоря, была достаточно охранительной, он был апологетом прусской монархии, он вообще был апологетом. Он сначала в Наполеоне увидел мировой дух, когда тот вошёл в Берлин, потом в прусском монархе увидел завершение истории и торжество мирового духа. Как вот такая охранительная философия стала вдруг философией революционной, призывающей к ниспровержению основ, к перевороту?
П. Бойко
— Вы знаете, в гегелевской философии, так как это философия абсолютного идеализма, есть моменты и противоположные, и то, что марксизм стал продолжением гегельянства, нужно говорить очень с большими оговорками, очень частично. Я объясню.
А. Козырев
— Маркс предлагал перевернуть Гегеля, поставить его с головы на ноги в философских тетрадях.
П. Бойко
— Это свидетельствует о том, что он не понимал способа мышления, Гегеля. Дело в том, что главное в Гегеле — это разумный способ мышления, то есть не рассудочный, а разумный, потому что очень часто эти два уровня мышления смешивались, хотя уже Кант очень чётко говорит «Der Verstand» и «Der Vernunft», и пишет «Критику чистого разума», а не «Критику чистого рассудка». И вот, собственно, гегелевская философия — это философия разумного абсолютно уже мышления, где есть отрицательный разум, диалектика, критическое мышление и положительный разум, спекулятивный. У Маркса же преимущественно преобладает отрицательный разум, он поэтому и говорит о классовой борьбе, о противоречии в капитализме, то есть он не приходит к снятию, и поэтому марксовский коммунизм, помните: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма»? Прыжок из царства необходимости в царство свободы, такие метафорические у него были экзерсисы, свидетельствует, что марксовский уже коммунизм — это абстрактно всеобщее, потому что здесь растворяется личность и растворяется гражданское общество, и в результате мы получили то, что уже получили. Поэтому Гегель не марксист.
А. Козырев
— Это русские друзья Маркса, Бакунин, помните, он писал: «Страсть к разрушению есть творческая страсть» в немецком ежегоднике.
П. Бойко
— То есть адекватно понять Гегеля можно только при условии, что ты достиг ступени спекулятивного, то есть положительно разумного, системно интегрального мышления. Если ты остановился на рассудочном уже мышлении, как, например, Ленин, или уже марксисты, ты будешь выхватывать из гегелевского учения только части, кусочки, но ты не будешь понимать целого. И будет тогда возникать иллюзия, что ты понял что-то в Гегеле, а на самом деле ты ничего в нем уже не понял, но мнишь, что понял.
А. Козырев
— А вот диалектика: она ведь имеет отношение не к теологии, а к философии, поскольку тривиум, грамматика, риторика, диалектика — это вот такое представление о базовом гуманитарном образовании, которое было в средневековых школах. Причем под диалектикой понималась логика, то есть умение вести рассуждения, последовательно рассуждать. Вот в чем специфика гегелевской диалектики? Он сюда что-то привнес свое, отличное, классической философской традиции? И потом, хочется спросить: а вот сегодня мы что-то мало стали слышать о диалектике. В советское время нам постоянно говорили: «это диалектика», а сегодня время как-то не вызывает к диалектике почему-то.
П. Бойко
— В том-то и дело, потому что, с одной стороны, многие позитивистские и постпозитивистские, постмодернистские способы мышления стали вытеснять диалектику, чего только стоит знаменитая статья Карла Поппера «Что такое же диалектика?», где он просто ее разносит в дребезги, как ему кажется.
А. Козырев
— Но он был враг Гегеля, ненавистник.
П. Бойко
— Да, и враг диалектики. Он считает, что на сегодняшний день современному философу пользоваться диалектикой еще хуже, чем если бы современный физик пользовался механикой Архимеда. Это свидетельство того, что вот этот англосаксонский позитивистский рассудок, он глубоко чужд этой диалектике, он ее не понимает, он думает, что это софистика, что это игра в слова, что это какие-то уже махинации, хотя на самом деле диалектика проходит всей красной строкой через всю мировую историю философии, Сократ, Платон, даже Аристотель — критик уже диалектики — в большей степени критикует софистику, а не диалектику именно как логический метод. У Гегеля же, это, кстати, очень большое предубеждение: диалектика — это часть логики, это отрицательное разумное мышление, это именно антиномическое, если пользоваться терминологией Канта, это тезис и антитезис. Но после диалектики идет спекулятивное мышление, синтез. Поэтому на самом деле в советское время, когда говорили о диалектике Гегеля, это как в русской поговорке: «Слышал звон, но не знает, где он».
А. Козырев
— Я помню, был анекдот, где мальчика трехлетнего спрашивают: «Ты любишь маму?» А он говорит: «Вот мне иногда кажется, что я люблю, а иногда кажется, что нет. А папа говорит, что это диалектика».
П. Бойко
— Конечно, да, то есть была массовая профанация диалектики. Например, чего только стоит переход количественных изменений в качественные, это якобы уже законы диалектики, но ведь дело было как, мы же знаем: Фридрих Энгельс, человек, он был философски более образованный, чем Маркс, прочитал гегелевскую «философию природы» и написал книгу «Диалектика природы», где назвал это «принципами». Товарищ Сталин, когда писал краткий курс истории ВКП(б), посчитал, что слово «принцип» для рабочего класса слишком мудрёное, слишком сложное, непонятное, и назвал это «законами»: закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественные и закон отрицания отрицания. А теперь такой вопрос: почему только количественные изменения могут переходить в качественные, а не качественные в количественные? Ответа нет.
А. Козырев
— Ещё говорили: «переход количества в качество», если просто говорить. То есть человек копит в кубышке деньги, вот он накопил там тысячу, миллион, и всё ждёт, когда они же там в качество превратятся, а они превращаются в пустые фантики, бумажки.
П. Бойко
— То есть это пример того, как рассудок мнит, что он понимает диалектику, и из неё выхватывает отдельные осколки, и мнит, что это и есть всеобщие уже законы. На самом деле у Гегеля нет таких законов нигде, это именно уже интерпретация Энгельса и ещё интерпретация товарища Сталина, и потом это всё кочевало в советских учебниках, как вы знаете, вплоть до перестройки и прочего.
А. Козырев
— Я не знал, что законы эти придумал Сталин, это очень интересно.
П. Бойко
— Краткий курс, 9-я глава.
А. Козырев
— Нарушил закон — уголовная ответственность, да?
П. Бойко
— Да, закон — это понятно.
А. Козырев
— Против закона единства и борьбы, противоположностей — враг народа. Это очень-очень хитрое изобретение.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор Кубанского государственного университета, доктор философских наук Павел Евгеньевич Бойко. Мы говорим о гегельянстве в России, и вот уже ряд ключевых гегелевских понятий мы в живой такой форме вспомнили. Ну, может быть, стоит вспомнить Парменида с его тезисом о единстве бытия и мышления. Можно ли сказать, что Гегель в каком-то смысле не только наследник Гераклита — «всё течёт», но и наследник Парменида, что быть и мыслить — суть одно?
П. Бойко
— Безусловно, потому что всеобщее есть не только бытие и не только мышление, есть их глубочайшее диалектическое единство, причём в котором нельзя какую-то одну категорию ставить на другую. Помните, основной вопрос философии в советское время: как мышление относится к бытию? Бытие первично, а мышление вторично, сознание вторично. Опять-таки, откуда это взято? Почему мы внутри всеобщего, где оба элемента как первичны, так и вторичны, одно искусно ставим над другим? Это просто произвол, потому что нам надо было быть материалистом, а если ты материалист, то создаётся видимость, что бытие должно быть первичнее, чем какое-то мышление, потому что ставить мышление вровень с бытием очень опасно было: человек начнёт понимать, что мы своим разумом конструируем тот предмет, который познаём, это кантовский замысел.
А. Козырев
— Ну хорошо, а христианство? «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
П. Бойко
— Да, но, во-первых, здесь перевод синодальный, слова можно было бы дополнить: «в начале была мысль», потому что здесь греческий logos — это и мысль, и учение, и смысл, и речь, и там более десяти уже коннотаций, и в духе именно в Евангелии от Иоанна, если мы посмотрим на это великое Евангелие о православии, ведь не зря даже Соловьёв называл «Иоанново христианство», имея в виду его философичность, его пасхальность, обращённость к грядущему и так далее, мы и видим как раз здесь вот это тождество бытия: «В начале было Слово» — бытие логоцентрично, бытие в своей сущности есть мысль, то есть оно Христоцентрично, поэтому здесь как раз и открывается действительно классическая мировая философия, и некоторые считают, что действительно, с Парменида бытие есть, а небытия нет, ибо его и помыслить-то нельзя, а начинается именно предмет философии, то, чем занимается философия по-настоящему, если она философия, а не что-то иное, и в этом плане, конечно же, Гегель отталкивается от Парменида, только отличие очень важное, и это отличие отражает христианство: в Античности бытие и мышление слишком слиты, в них есть тождество, но нет почти различия, а отсюда ощущение эйфории бесконечности человека, что он может в других жизнях перерождаться, нет страха смерти, нет идей спасения, ещё нет духа, даже у Аристотеля этого нет, а вот христианство открывает, что бытие и мышление не только тождественны, но ещё и отличны друг от друга, они глубочайшим образом различаются, и тождество их есть дух, дух и есть познавшее себя всеобщее, это и есть процесс именно самопознания. И обратите внимание, почему в Евангелии мы видим, что хула против отца и сына, когда говорит Спаситель, она может быть прощена, а хула против Святого Духа не может быть прощена. Спрашивается, а почему такое? А потому что Дух есть результат всего Божественного откровения, есть результат всего процесса, это и есть конкретное всеобщее, включающее и бытие, и мышление, и их тождество, и их различия.
А. Козырев
— То есть христианство ближе к Пармениду, чем наше современное сознание, которое считает, что бытие и мысль — это совершенно разные вещи? В постмодернизме мысль никакого отношения к бытию не имеет, это абсолютно наша субъективность, проекция нашего собственного сознания.
П. Бойко
— Да, Но это свидетельство глубочайшего эклектизма и анахронизма, в который впадали периодически так называемые постклассические формы мысли, которые мнили, что они что-то новое уже говорят, а на самом деле воспроизводили то, что уже мировая философия давным-давно открыла и переосмыслила критически. Поэтому в том-то и дело, что не всякому духу верьте, а испытывайте, проверяйте, должно быть критическое отношение к современной постклассической так называемой уже философии, что в ней действительно обеспечивает прирост знания, а что является уже повтором, анахронизмом, произволом, эклектикой, игрой в бисер.
А. Козырев
— Но в этом в принципе тождества бытия и мышления не есть ли определенная ловушка, когда Гегель говорит «всё действительно разумно», «всё разумно и действительно», и на эту фразу спотыкается тот же Белинский, что раз всё действительно разумно, значит и шпицрутен разумно, и тут возникает конфликт определенный. То есть действительно ли в нашей жизни всё разумно, вот война, страдания, зло, насилие, можно ли это назвать разумным, а значит и оправдать?
П. Бойко
— Точка зрения Белинского великолепно иллюстрирует смешение рассудка с разумом. Когда Гегеля спросили об этом, он сказал очень гениально: «Не всё существующее действительно», то есть надо различать реальность и действительность. В реальности масса случайного, приходящего, не истинного, сумасбродного, необъяснимого и так далее. Вот, например, в юриспруденции это хорошо проявляется: если стороны заключают договор о купле-продаже дома, но не заверяют его нотариально, договор реален? Реален, но суд его признает недействительным. Также и здесь: в происходящей жизни масса неразумного, но это неразумное не относится к действительности, оно относится к реальности. И задача человека, мыслящего — привести свою реальность к действительности, именно к чистому понятию.
А. Козырев
— То есть истинное бытие, да?
П. Бойко
— Вот так решается эта проблема. Но так как рассудок это различие плохо видит, он начинает в эмоции впадать и говорит, что — «вот, я тебе возвращаю этот билет знаменитый» из «Братьев Карамазовых»: «Возвращаю вам билет этот», о «слезинке ребёнка».
А. Козырев
— Не просто «вам», а Богу возвращает. «Я не Бога не приемлю, а мир, созданный Богом, не приемлю», — говорит Иван Карамазов. То есть, по сути, произносит хулу на Творца, на творение, а тем самым и на Творца.
П. Бойко
— Да. Это именно эмоции, это рассудок, и русская мысль, она постепенно шла к снятию этого. Я сейчас очень хочу важную вещь сказать, что в позднесоветское время стали возникать опыты преподавания философии не диаматовские, и в качестве примера мы можем привести Ленинград, ленинградский философский факультет и творчество Евгения Семёновича Линькова, который преподавал материализм как абсолютный идеализм. То есть он становился на точку зрения Маркса и Энгельса, но не относился к диамату догматически и начинал эти все категории мыслить критически так, что они сами себя опровергали. То есть он изнутри, из диамата, не извне, а изнутри его взрывал.
А. Козырев
— В Москве был такой пример: Батищев Генрих Степанович, который тоже был марксист, гегельянец, а потом стал православный мыслитель в конце своей жизни, учение разработал о другодоминантности, о другом, об общении, очень такое глубокое и основанное на каких-то религиозных моментах взаимодействия людей.
П. Бойко
— Да, то есть русская мысль пришла в конечном счёте не к религиозной философии, а скажу специально тавтологически — «философской философии», то есть чисто уже логической философии, внутри которой религиозное откровение имеет своё законное место, чётко выступает принципом, но не является каким-то идеологическим мэтром.
А. Козырев
— А вот как вы считаете, философия, она может занять место религии? Ведь в советское время так думали, что религия — это пережиток, что это для необразованных, непросвещённых, а вот просвещённый человек должен диамат изучать. Ну, допустим, диамат ушёл в прошлое, а вот сегодня мы можем сказать, что на смену религиозному миросозерцанию догматическому, может прийти философское, свободное, критическое, рациональное и так далее?
П. Бойко
— Понимаете, по Гегелю формы абсолютного духа, они равноценны и равночестны, опять-таки, как Лица Святой Троицы. Мы же не можем сказать, что Отец выше Сына или Святой Дух выше Отца, сама постановка такая абсолютно уже кощунственная. Мы не можем. Так же и здесь, посмотрите, лекции по эстетике, лекции по философии религии гегелевские и лекции по истории философии, они все органично показывают то, как от художественного созерцания мы идём к религиозному представлению, а от религиозного представления — к логико-философскому понятию, внутри которого, в снятом, то есть преобразованном сохранённом виде присутствует момент истины и художественного созерцания, и религиозного откровения, поэтому это не уничтожение искусства религии, а сохранение, наоборот, того истинного.
А. Козырев
— В каком-то смысле вот был гегельянец такой в русской философии — Иван Александрович Ильин, который написал свою диссертацию именно о Гегеле: «Учение Гегеля о конкретности Бога и человека».
П. Бойко
— Даже Ленин её оценил в свое время.
А. Козырев
— Да, и вот, собственно, Ильин пришёл к тому, чтобы и религию, аксиомы религиозного опыта осмыслить, как такую форму духа, где человек общается со всеобщим, с Богом, с абсолютом, где он совершает религиозный акт. Наверное, это говорит о том, что есть определённо и преемство, и эволюция от Гегеля к, скажем так, православному гегельянству, так можно сказать.
П. Бойко
— Да, совершенно верно. Все три формы абсолютного духа должны быть гармонично, органично, системно представлены в духовном опыте современного человека, и в образовании в частности, потому что образование, его главная цель-то проста — движение индивида к разумному способу бытия духа, к разумному способу мышления, к освоению мировой интеллектуальной культуры. А сейчас эта цель, движение к разумности, как принцип, она даже не прописывается, она даже не ставится.
А. Козырев
— Хорошо. А как войти в Гегеля? Вот, допустим, заинтересовался наш слушатель гегелевской философией, что прочитать? «Гегель за 90 минут»?
П. Бойко
— Нет, ни в коем случае нельзя начинать с «Феноменологии духа», ни в коем случае нельзя начинать с «Науки логики», потому что это результат, к ним надо прийти. Начинать надо с лекций по истории философии. Обратите внимание, в этих трех томах, в трех книгах Гегель дает очень богатый биографический материал, он там и позитивист, он дает жизнеописание, биографию, судьбу, в отдельных случаях он даже минимизирует свою концептуальную схему «логика-природа-дух», то есть он показывает место каждого учения в создании всеобщей диалектики мышления бытия. Это на сегодняшний день единственная разумная история мировой философии, описанная не позитивно, а описательно, не просто эмпирически, а с логической уже точки зрения. И после лекций по истории философии уже можно перейти к лекциям по философии религии, они написаны прекрасным языком, а тем более, что переводчик Пиама Павловна Гайденко, она переводила, насколько я помню, лекции по философии религии, она прекрасно их перевела, там такое ощущение, что Гегель — православный человек, понимаете?
А. Козырев
— Сама Пиама Павловна была православная.
П. Бойко
— Там в разделе «Абсолютная религия» Гегель страниц двадцать посвящает смерти Христа, он придает огромнейшее значение этому. Вот я однажды взял, вырвал эти двадцать страниц и показал одному своему коллеге, специалисту в православной теологии, и спросил: «Как ты думаешь, чей это текст?» Он говорит: «Понятное дело, это кто-то писал из богословов православных». А я показываю ему автора. Он говорит: «Как? Это Гегель писал? Так это же чисто богословский способ мышления, и о Святом Духе, и о пасхальности говорит, и о кенозисе говорит, и о чисто православных вещах!» Это еще раз свидетельствует, что он не конфессиональный мыслитель, его нельзя назвать ни католическим, ни протестантским.
А. Козырев
— Я думаю, что итогом нашей беседы является то, что вообще надо ко всему относиться без предубеждения, без того, что: «А, это Гегель, это гегельянство, это западный рационализм...» Вот возьми, у Гегеля найди золотую крупицу, которая что-то по-новому осветит, откроет твой духовный опыт, твою жизнь, может быть, научит каким-то решениям, кто мыслит абстрактно. Замечательный текст в переводе Эвальда Ильенкова, с которого мы начинали постижение Гегеля. Я благодарен нашему сегодняшнему гостю, профессору Павлу Евгеньевичу Бойко за то, что мы затронули эту непростую тему русского гегельянства, Гегеля в России, и, наверное, это один из тех великих мыслителей, через которого можно войти в мир философии и что-то в этом мире понять, постигнуть и приобрести. А может быть, для кого-то это и есть философ «par excellence», как говорил Владимир Соловьев в своей блестящей статье в энциклопедии Брокгауза и Ефрона о Гегеле. Спасибо большое, до новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
П. Бойко
— Большое спасибо, Алексей Павлович, большое спасибо всем слушателям. До свидания.
А. Козырев
— До свидания.
Все выпуски программы Философские ночи
28 января. О личности и мировоззрении Василия Ключевского

Сегодня 28 января. В этот день в 1841 году родился историк Василий Ключевский.
О его личности и мировоззрении — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.
Все выпуски программы Актуальная тема
Псалом 85. Богослужебные чтения

Тревожность, беспокойство и страх — состояния, которые нередко посещают каждого из нас. Мы боимся будущего, одиночества, неудачи, мнения других, болезней. Поэтому наш внутренний мир часто похож на волнующееся море. Священное Писание предлагает парадоксальный выход: если хочешь избавиться от гнетущего страха перед жизнью, необходимо приобрести страх перед Богом. Именно этой теме посвящён 85-й псалом, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
Псалом 85.
Молитва Давида.
1 Приклони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ.
2 Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя.
3 Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день.
4 Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою,
5 Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя.
6 Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего.
7 В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня.
8 Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои.
9 Все народы, Тобою сотворённые, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твоё,
10 Ибо Ты велик и творишь чудеса, — Ты, Боже, един Ты.
11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце моё в страхе имени Твоего.
12 Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твоё вечно,
13 Ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего.
14 Боже! гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей: не представляют они Тебя пред собою.
15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
16 Призри на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей;
17 Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
«Утверди́ се́рдце моё в стра́хе и́мени Твоего́», — просит Бога псалмопевец. О каком страхе идёт речь? Очевидно, что это не состояние животного ужаса перед наказанием. Ведь Бог есть любовь. И как говорит апостол Иоанн Богослов, «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Поэтому выражение «страх Божий», которое использует прозвучавший псалом, указывает на нечто иное.
В книге пророка Исаии есть знаменитый эпизод. В нём рассказывается о том, как Господь явился пророку. Потрясённый этим видением Исаия закричал: «Го́ре мне! поги́б я! и́бо я челове́к с нечи́стыми уста́ми, и живу́ среди́ наро́да та́кже с нечи́стыми уста́ми, — и глаза́ мои́ ви́дели Царя́, Го́спода Савао́фа». Это возглас человека, который увидел полноту святости и перед её лицом осознал свою нечистоту и несовершенство. Чувство, которое посетило Исаию, — это комбинация глубочайшего почтения, изумления, признания абсолютного превосходства и величия Бога, и вместе с тем это здоровое осознание дистанции между Творцом и творением. Это состояние благоговейного трепета.
Что важно, именно с этого момента начинается служение Исаии как пророка. Он исполняется Божественной мудрости, получает пророческий дар. Поэтому и говорится в книге Притчей царя Соломона о том, что страх Господень — это начало Премудрости. Более того, Исаия исполняется мужеством и отвагой. Он не боится идти к враждебно настроенным к нему людям и возвещать им волю Творца. И это несмотря на то, что так он подвергает себя смертельной опасности. Опять же, так действует страх Божий. Он не парализует, как животный ужас. Напротив, это установка, которая упорядочивает жизнь и даёт силы для активной и целенаправленной деятельности. И причина проста — страх Божий ставит Бога в центр мироздания и нашей личной вселенной. И теперь пророком управляют не его эго, не его личные желания или боязни. Им руководит Дух Господень.
Именно об этом страхе и просит псалмопевец. Подобно пророку Исаии и премудрому Соломону, он познал важную истину, о которой также читаем в книге Притчей: «Страх Господень ведёт к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен». Древнееврейское слово, которое переведено как «доволен», можно перевести как «умиротворён». Тот, кто познал страх Божий, избавлен от тех тревог, которыми наполнена жизнь. Он находится в состоянии довольства. И причина очевидна. Такой человек перестаёт почитать себя мерой всех вещей и полагаться исключительно на свои силы. Он признаёт, что не может самостоятельно управлять своей жизнью, справляться с её непредсказуемостью и с тем абсурдом, который порой творится вокруг. Он приучил себя отдавать всё это Творцу. То есть приучил себя ставить Его на первое место во всех своих делах. Советоваться с Ним перед каждым даже самым будничным и прозаичным начинанием. Постоянно искать Его волю и сверять свои мысли, чувства, слова и поступки с Его законом. За это Господь постепенно наполняет его сердце Своей благодатью.
Первое соборное послание святого апостола Петра
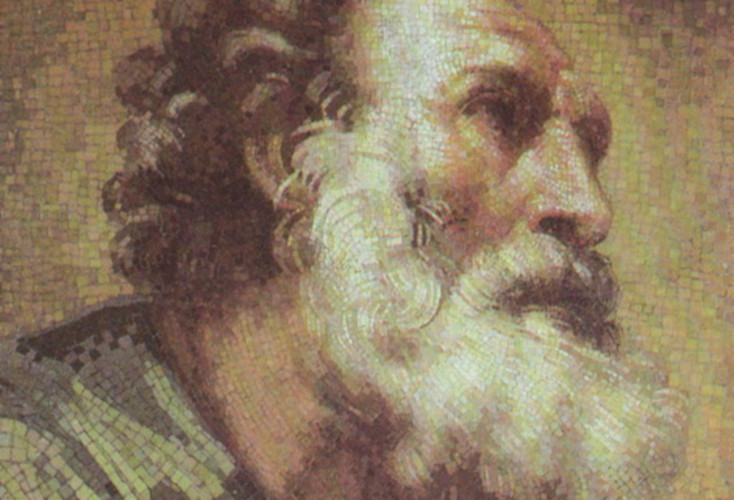
Апостол Пётр
1 Пет., 61 зач., IV, 1-11.

Комментирует священник Антоний Борисов.
В наши дни завещание представляет собой документ, определяющий права на собственность автора завещания. В древности завещание представляло собой скорее завет — то есть наставление, как и для чего жить. Именно в таком ключе стоит воспринимать текст, который мы с вами сейчас услышим. Речь — об отрывке из 4-й главы первого послания апостола Петра, что читается сегодня утром во время богослужения. Послушаем.
Глава 4.
1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить,
2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией.
3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению;
4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас.
5 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых.
6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом.
7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.
8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота.
10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией.
11 Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Мы с вами только что услышали заключительную часть первого послания апостола Петра. Перед нами, повторюсь, самое настоящее завещание — проникновенный призыв-завет к христианам, как и для чего им следует жить. Интересно, что, судя по деталям повествования, первоначальные адресаты прозвучавшего текста ангелами не были. Эти люди пришли в христианство из язычества. И апостол довольно подробно рассказывает, как была устроена жизнь его первых читателей. Он, в частности, пишет: «Вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению».
Но апостол не отворачивается от этих людей, не выражает по отношению к ним никакого презрения. Наоборот. Он радуется, что язычники, жившие в тяжких грехах, со своим ужасным прошлым покончили, разорвали связь с пороками, о которых и говорить стыдно. И Пётр просит своих первоначальных читателей быть верными Христу до конца, не искать лукавых компромиссов с совестью. Но завет апостола не ограничивается только борьбой.
Дело в том, что сопротивление ради сопротивления — цель сомнительная. Только отсекать, отказываться, отвергать нельзя. Необходимо иметь ещё и положительную задачу. Апостол Пётр это прекрасно понимал. Потому он, призывая христиан к беспорочной жизни, не менее сильно просит их совершенствоваться в добродетелях, укреплять любовь друг ко другу, служить Богу теми талантами, которыми мы нашим Творцом наделены. И делать всё перечисленное не ради собственной славы, а ради славы Божией. Или как пишет апостол: «Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую даёт Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа».
Призыв-завет апостола Петра актуален и в наши дни. Окружающий нас мир очень напоминает тот, в котором пришлось жить святому. Мы видим, как вокруг процветают различные пороки, как люди выбирают не свет, но тьму. Но это не повод отчаиваться и сдаваться. И это не повод презирать людей, совершающих даже самые тяжёлые грехи. На примере текста прозвучавшего послания мы видим, как Бог способен вытащить человека из плена даже самых страшных ошибок. Ведь и апостола Петра Господь спас — принял его покаяние за совершённый в ночь пленения Христа грех предательства.
И Пётр с глубочайшими смирением и благодарностью принял дар Спасителя, сделав выводы и в отношении других людей. А именно — если Бог простил Петра, то и сам Пётр теперь призван прощать, покрывая любовью чужие ошибки. К тому же самому приглашаемся апостолом и мы. Будем же следовать его завещанию, стремясь жить в мире с Богом, окружающими людьми и собственной совестью. И тогда Христос, победивший зло и смерть, будет присутствовать в нашей жизни, освящая и укрепляя нас в дни скорби и радости.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов














