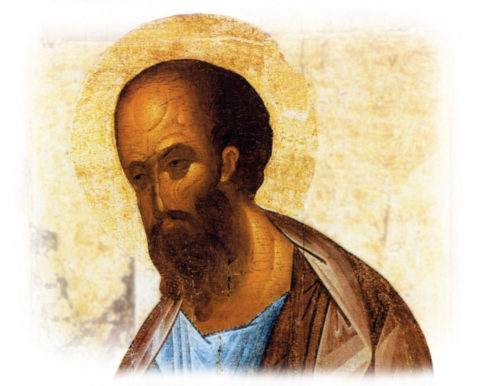В программе «Пайдейя» на Радио ВЕРА совместно с проектом «Клевер Лаборатория» мы говорим о том, как образование и саморазвитие может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе.
Гостьей программы «Пайдейя» была начальник отдела Олимпиад Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета Елена Анашкина-Хоанг.
Разговор шел о том, как Олимпиады помогают в современном образовательном процессе и как христианские темы и дисциплины присутствуют различных Олимпиадах.
Ведущая: Кира Лаврентьева
Кира Лаврентьева
— Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Пайдейя». Меня зовут Кира Лаврентьева. Хочу вам напомнить, что красивым словом пайдейя древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С трепетной радостью хочу вам рассказать, дорогие друзья, что у нас в студии Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела олимпиад Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Особенно важно пометить, что мы с Еленой сегодня будем на «ты», потому что знакомы очень давно, с ранней юности, еще с учебы в Свято-Тихоновском, и так прекрасно получилось, что Елена продолжает заниматься развитием университета. Это очень приятно, прекрасно и удивительно. Здравствуйте, Елена.
Елена Анашкина-Хуанг
— Здравствуй, Кира. Здравствуйте всем.
Кира Лаврентьева
— То есть привет.
Елена Анашкина-Хуанг
— Привет, да.
Кира Лаврентьева
— Лена, давай поговорим сразу про наш главный инфоповод. Сегодня мы будем говорить об олимпиадах Свято-Тихоновского университета. Давай расскажем про эти олимпиады, какие они, для кого они, куда идти, что делать? А дальше уже будем углубляться в тему.
Елена Анашкина-Хуанг
— У университета есть три большие олимпиады. Вообще университет проводит олимпиады уже 20 лет, в этом году самая первая университетская олимпиада отметила свое 20-летие. Конечно, сначала эти олимпиады развивались как наша небольшая домашняя олимпиада. Олимпиада «Аксиос» была создана для знакомства школьников с факультетами, направлениями образования, которое предоставляет университет. Позже из этой олимпиады выросла большая общероссийская олимпиада «Основы православной культуры», занималась целая команда, и Татьяна Владимировна Склярова, которая, я знаю, тоже сотрудничает с лабораторией «Клевер». Она ее тогда запустила с командой и развила до всероссийских масштабов. Также в этой команде работает и продолжает с нами работать Викентий Генриевич Абрамян, который практически автономно ведет олимпиаду «Наше наследие». И вроде бы они все гуманитарные и исторические, но на самом деле они очень разные. Поэтому мы всегда приглашаем наших участников поучаствовать и попробовать во всех олимпиадах. «Аксиос», понятно, многопрофильная олимпиада, там есть даже математический профиль, сейчас эта олимпиада также представляет собой знакомство с нашими бакалаврскими программами. Мы ставим большой задачей познакомить наших участников, даже самых младших, с другим образованием, не школьным, чтобы они увидели знакомые предметы, знакомые вещи через призму университетского образования. Для старших детей это большие сложные тексты предлагаем, если это историческая часть или обществознание. Тексты на английском мы предлагаем. Оценивает наше жюри, наши преподаватели, которые имеют уже университетский взгляд на всё это дело. Олимпиада «Наше наследие», с одной стороны, историческая, с другой стороны, она уникальная, потому что Викентий Генриевич разработал систему оценки, как в олимпиадах математических и точных наук. Она метапредметная, и там больше всего прокачивается логика, скорость реакции. Там даже есть у него такие задания, когда ребенок поставлен в условия принятия решения. Это в общих конкурсах, но тем не менее. Там ребенок должен решить, сколько баллов он поставит за это задание. Например, я ставлю три балла. Если он правильно ответит, он эти три балла получит, а если неправильно, у него эти три балла заберут.
Кира Лаврентьева
— Серьезный подход.
Елена Анашкина-Хуанг
— Ребенок должен принять решение, рискнуть. Это не во всех турах, не во всех заданиях, но в этой олимпиаде есть и конкурсные части, командные, и индивидуальная часть, метапредметная, максимально нейропсихологическая. Олимпиада «Основы православной культуры» историческая, у нее профиль исторический. Она, с одной стороны, проверяет эрудицию и знание предмета, с другой стороны, на этапе школьного тура, самого массового тура, где у нас больше ста тысяч человек ежегодно, ставит задачей и просветительскую миссию, где знакомит детей с русской культурой, и с христианством, и с церковными культурными, религиозными традициями. Такая задача большая — знакомство, патриотическое развитие, я не очень, правда, люблю это словосочетание.
Кира Лаврентьева
— Потому что оно немножко...
Елена Анашкина-Хуанг
— Избитое. Мы хотим познакомить детей с культурой страны, в которой они растут. Сделать это максимально не навязчиво и через какие-то, может быть, игровые задания. А вот финальные этапы, мы стараемся больше дать детям работу с текстом: анализ текста, умение вычленить главное, ответить на вопросы. Для младших это ответы на вопросы, для старших это небольшое сочинение-рассуждение. И тут мы оцениваем, опять же, финал оценивают наши преподаватели, они смотрят, как ребенок работает с текстом, как ребенок анализирует текст и как ребенок строит свою письменную речь. Устная речь — во мне проснулся нейропсихолог — есть внутренняя речь.
Кира Лаврентьева
— Давай-давай, это очень интересно.
Елена Анашкина-Хуанг
— Есть внутренняя речь, есть речь устная и есть речь письменная. Это немножко разные виды речи, они немножко по-разному проявляются, развиваются. Часто, особенно сейчас, когда дети мало пишут, я еще в школе работаю, когда с детьми разговариваю, они говорят, в голове у меня это совсем по-другому. Я понимаю, внутренняя речь у него может быть гораздо богаче, устная чуть-чуть попроще, а в письменную речь он вообще выразиться иногда не может. Это совсем другой вид речи, а у него внутри там что-то бурлит и бурлит.
Кира Лаврентьева
— Миры целые.
Елена Анашкина-Хуанг
— Не просто картинками, а действительно он как-то внутри вроде бы проговорил, говорит, у меня совсем иначе звучит, а тут вообще не звучит, написал, такая ерунда получилась, мне аж прям стыдно.
Кира Лаврентьева
— Елена, это очень интересно. Давай ненадолго отойдем сюда. Почему это происходит? Чего не хватает, книжек? Я тут сейчас сразу на своего любимого конька-горбунка, пойду сегодня к детям, скажу, у меня был сегодня умный человек в гостях.
Елена Анашкина-Хуанг
— Спасибо. Я тоже люблю книжки.
Кира Лаврентьева
— Он сказал, что нужно читать.
Елена Анашкина-Хуанг
— Читать нужно и нужно не только читать, но проговаривать тоже.
Кира Лаврентьева
— Обсуждать.
Елена Анашкина-Хуанг
— Обсуждать, говорить, и я всех очень призываю вести дневник.
Кира Лаврентьева
— Читательский.
Елена Анашкина-Хуанг
— Читательский, просто какой-то.
Кира Лаврентьева
— Обычный.
Елена Анашкина-Хуанг
— Обычный, да. Именно, чтобы это был личный. Все сейчас вышли в соцсети, соцсети зачастую выглядят как дневник жизни, человек пишет: сегодня я поел, сегодня я проснулся во столько. Но тут, особенно ребенок, постепенно будет съезжать на то, что он ждет либо одобрения, либо какого-то мнения, либо просто лайка. Это запускается дофаминовая цепочка поощрения извне. А нужно вести именно свой дневник под замочком, чтобы мама туда никогда не заглянула, если он сам, конечно, не разрешит. Есть такая у детей опасность, и многие делились со мной: а я буду записывать... Я говорю: ты можешь писать там всё, что угодно, любыми словами, что пришло в голову, то пишешь. Ты только тогда поймешь, как ты пишешь, когда после этого прочитаешь и сможешь вырасти из этого. Даже если там будет «а-а, э-э, я сегодня не знаю, что сказать», ты это увидишь на бумаге, а не где-то в голове. А вдруг мама найдет? Когда мы просим вести дневник, это договоренность не только со стороны ребенка, что он туда пишет, но это серьезная материнская, родительская работа, что как бы ни хотелось туда заглянуть, мама туда не заглядывает.
Кира Лаврентьева
— Честность.
Елена Анашкина-Хуанг
— Бывает всякое, а вдруг, а безопасность? Для этого, собственно, слава Богу, есть мессенджеры, соцсети, где ребенок подумает, но в принципе считать можно, что за этим стоит. А с другой стороны, все-таки должен быть личный дневник, который тренирует письменную речь. Это не та письменная речь, которая требуется в эссе, но это маленький шажок, который можно практиковать со второго класса. Дети в начальной школе вообще перестали писать какие-то сочинения, рассуждения, это большая беда, потому что когда они начинают в старшем возрасте что-то писать, оказывается, что они не умеют писать. Я в свое время училась в гимназии «Радонеж», у нас во втором классе было задание на лето вести дневник всё лето. Я действительно вела дневник всё лето, и с тех пор я веду дневник с какой-то периодичностью, и это очень классная штука.
Кира Лаврентьева
— Абсолютно. Я вспоминаю свое детство, мы всегда вели эти дневники, всегда. В гостях у программы «Пайдейя» Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела олимпиад Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Меня зовут Кира Лаврентьева. У нас сегодня удивительная гостья, потому что она совмещает в себе и преподавателя в институте, считай преподаватель — руководитель отдела олимпиад, практически то же самое. И детского нейропсихолога. И мы можем и с этой стороны посмотреть, и с этой посмотреть на проблему. В олимпиадах участвуют дети не простые, потому что требования олимпиады выходят за рамки школьной программы, они требуют углубленных знаний, они требуют других навыков, какого-то свежего взгляда. Вопросы в олимпиадах очень часто нестандартные, не достаточно пройденного материала, тебе нужно еще уметь думать. А вот это умение думать как развивается? Письменная, устная речь — о`кей. Дневники, книги по большому счету, ну может быть, аудиокниги, разговор постоянный с родителями, прочитал-обсудил, прочитал-обсудил. А что происходит с нестандартным мышлением? Понятно, что рамки школьной программы имеют определенные минусы, и эти минусы — это как раз некая система, в которой важно ребенку удержаться, чтобы получить хорошие оценки. Что по поводу этого, Лена, ты скажешь?
Елена Анашкина-Хуанг
— Про нестандартное мышление? Поскольку я консультирую родителей прямо с рождения ребенка, то можно выстроить всю стратегию с рождения.
Кира Лаврентьева
— А-а, где ты раньше была?
Елена Анашкина-Хуанг
— Это на отдельную передачу, мне кажется, история.
Кира Лаврентьева
— Да, так и есть.
Елена Анашкина-Хуанг
— Нестандартное мышление — это грубо, но тем не менее — начинается, когда ребеночка только выпустили в четыре месяца на пол. Тут важно обезопасить не ребеночка, не лезь, туда, а обезопасить пространство, в котором он находится. С этого будет начинаться его развитие нестандартного мышления. Захотел сюда полез, захотел туда полез. Розетки, понятно, он туда полез, потому что там интересно, дырки какие-то, пальцы нужно всунуть. А когда мы говорим, не суй туда пальцы, он не понимает, почему нельзя туда пальцы засовывать, ему же интересно. Это исследовательский у него рефлекс, ему нужно исследовать мир. А когда мы запрещаем, мы ему говорим: всё, здесь ты мир не исследуешь. Он так 5-10-100 раз уткнулся, где ему нельзя исследовать мир, и он чуть-чуть понял, вот может быть, нельзя. И туда тогда не полезу, потому что там было нельзя. Поэтому нестандартное мышление — в этом пространстве ему можно всё, что он видит. Соответственно, пространство должно быть такое, где ему можно всё.
Кира Лаврентьева
— То есть самые опасные места закрываем и даем ему свободу.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да. Он должен понимать рамки. Не так, что вседозволенность, которая сейчас очень популярна в психологизированном обществе. Я не про то. Я про то, что мы делаем те границы, в которых ребенок чувствует себя комфортно. Чем младше ребенок, тем у́же границы, чем старше ребенок, тем шире. Но когда ребенок рождается, его границы — кроватка, в которой он лежит и на эту штучку смотрит. Потом они расширяются, он выходит дальше. Но в этой кроватке и штучке он может делать всё, что он захочет. Ребенок это понимает. А потом становится интересно, туда же дальше можно вылезти. Вот он туда вылезает, и там ему снова всё можно. А потом он понимает, что оказывается, тут всё можно, а туда почему-то нельзя, и ему туда надо. И вот уже в полтора-два-три года он понимает, что здесь опасно. Он сам поймет... У меня мама, я помню, я была очень маленькая, и всё время хотела к свечам. Она художник и в какой-то момент работала с батиком, а там нагреваются разные штуки, есть техника, когда воском разбрызгиваешь горячим. Там свечи, мне так интересно, я туда лезу, она мне объясняет опасно-опасно. А что опасно, не понятно же? Что такое опасно, не понятно. Тут я головой жмякнулась. мне больно, это понятно. Она брала мой палец, подносила аккуратненько к свечке, я чувствую жар, и отдергивает сразу. И это понятно, что если я буду дальше держать, значит, мне будет горячо. Так все-таки трехлетний ребенок понимает. Мы не просто говорим, опасно, а мы ему физически даем понять, почему туда лезть не стоит. Это я, извините, углубилась в свой любимый мир психологических историй. Это для малышей, он не боится экспериментировать. Изначально нестандартное мышление — это про эксперимент, про поиск, сюда залез, тут облизнул, там понюхал, там что-нибудь откусил. А когда ребенок становится старше, естественно, это всё переходит в когнитивную плоскость, в плоскость его интересов и учебных, и каких-то хобби, и новой информации. Если он может попробовать решить задачку математическую, пусть у него ничего не получится, но он захочет попробовать, туда-сюда повертеть эти цифры, числа, знаки.
Кира Лаврентьева
— Подумать.
Елена Анашкина-Хуанг
— Это писк, который будет способствовать развитию его нестандартного мышления. У нас даже есть преподаватель, который в ключах к заданиям прописал, что если ребенок ответил неправильно, но привел рассуждения логические, пришел к неправильному выводу, мы даем ему за это баллы. Причем, максимально, предположим, семь, а мы даем ему за это пять. Пишем, что за рассуждения. Если ответ был неверный, все равно была видна творческая работа, где он должен был...
Кира Лаврентьева
— Подумать.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да, прочитать текст, подумать и выразить свою какую-то мысль и обязательно с рассуждением. За рассуждение мы ставили почти максимальный балл, даже если вывод был неправильный. Если олимпиада историческая, мы все-таки окружены историческим контекстом, и нужно было сделать какой-то вывод, связанный с этим историческим контекстом, если вывод не попадал, мы снимали всего два балла при стройном, интересном рассуждении. Это, на мой взгляд, стимулирует развитие нестандартного мышления. Мы потом скажем, что ты пришел к неправильному выводу, ты вот тут ошибся, но твои рассуждения были интересные, верные. Нестандартное мышление рождается в поиске, в пробах, сюда тыкнулся, тут получилось, сюда тыкнулся, тут не получилось, пошел дальше. Но должна быть какая-то поисковая смелость.
Кира Лаврентьева
— Грубо говоря, нужно отстать от своих детей, в хорошем смысле этого слова.
Елена Анашкина-Хуанг
— В хорошем смысле. С одной стороны, отстать, а с другой стороны, следить, что ему интересно и нравится, и аккуратненько подсовывать. Например, моя дочка любит читать детективы, она их естественно сама ищет, что найдет, не известно. Но в моей воле подсунуть ей что-то более-менее проверенное. Что-то ей нравится, историю она страшно любит, соответственно, когда мы приезжаем куда-то с семейной поездкой, мы ищем исторический музей, чтобы она пришла, походила, посмотрела, где-нибудь зависла у какого-то стенда. Действительно, поощрение тех интересов, которые есть у ребенка, и возможность ему порассуждать. У нас Люба очень любит рассуждать, а что было бы так, а как бы было бы не так, какие-то факты сопоставлять. Как-то мы пришли с ней в музей, она подбегает к какому-то портрету, называет мне его: а вот в это время, знаешь, мама, в Англии было вот это. Программа истории школьной, каждый учитель истории должен стремиться именно к тому, чтобы ребенок чувствовал контекст, что не отщеплен где-то, у нас есть история Россия, там у них история Англии, а что это единая человеческая история. Здесь у нас был вот это.
Кира Лаврентьева
— А там было вот это.
Елена Анашкина-Хуанг
— Она говорит: а ты знаешь, оказывается, еще вот эти вообще общались, И ты понимаешь, что есть какая-то связь культур, и это расширяет у ребенка, во-первых, не только эрудицию, но и возможность мыслить шире и в бытовых вопросах. Если этот отсюда и этот оттуда общались, и у них были какие-то общие темы для разговора, значит, в этой бытовой плоскости сам ребенок может шире раздвинуть свои какие-то поиски, свои какие-то пробы. Вопрос не только эрудиции, что ребенок помнит, где что находится или где что происходит.
Кира Лаврентьева
— Ой, Лена, заслушалась я вас. Это нужно действительно отдельно разговаривать, мы обязательно это сделаем. А сейчас давайте вернемся к теме олимпиад, для интересующихся расскажем, можно ли к ним присоединиться. Я так понимаю, уже со следующего года, с сентября.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да, со следующего года.
Кира Лаврентьева
— Но можно уже начинать думать об этом.
Елена Анашкина-Хуанг
— Мы начинаем готовить следующий год с весны, с лета текущего года. Мы сейчас разрабатываем новые темы олимпиады. У олимпиад есть темы. У «Основы православной культуры» есть сквозная тема «Основы православной культуры и то, что я сказала раньше, где мы хотим познакомить детей и с христианством, и с церковными традициями. Я опять немножко отвлеклась.
Кира Лаврентьева
— Нет, нет, всё прекрасно.
Елена Анашкина-Хуанг
— Поскольку участвуют больше пяти тысяч школ, это школы государственные и не православные, это массовый тур, где в основном участвуют дети не церковные. Мы строим наши занятия так, чтобы познакомить детей. Можно сколько угодно отделять Церковь от государства, а государство от Церкви, но вся европейская цивилизация, и наша российская в том числе, развивалась на христианской культуре. По всем музеям пройдешь и там везде все равно христианство.
Кира Лаврентьева
— Конечно.
Елена Анашкина-Хуанг
— Поэтому чтобы быть приличным, цивилизованным европейцем, нужно это в любом случае знать, даже если ты не будешь религиозным человеком. Мы сейчас пытаемся. И у «Основы православной культуры» и у «Нашего наследия» есть тематика года, на которую мы больше будем делать упор в своих заданиях. Каждый год мы стараемся отразить тему государственную, которую объявляет президент, и интегрировать ее в те олимпиады, которые у нас проходят. Была тема защитника отечества, мы эту тему продолжим, потому что у нас 24-25, 25-26. На 25 год мы будем продолжать эту тему. Потом мы смотрим, какие-то памятные даты и церковные и государственные и тоже стараемся их интегрировать в задания. Например, будет юбилейная дата иконописца Андрея Рублева, мы тоже хотим какие-то задания посвятить этому святому и искусству.
Кира Лаврентьева
— И живописи.
Елена Анашкина-Хуанг
— Мы анонсируем эти темы еще летом, стараемся подготовить список литературы, и уже через какое-то время (сейчас они в разработке), мы у себя во всех пабликах это публикуем, чтобы дети могли подготовиться. В сентябре уже стартуют сами олимпиады, в которых можно принять участие. Есть регистрация, ребята регистрируются и идут дальше.
Кира Лаврентьева
— Программа «Пайдейя» на Радио ВЕРА. У нас в студии Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела олимпиад Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Кира Лаврентьева
— Программа «Пайдейя» на Радио ВЕРА продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. У нас в студии Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела олимпиад Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Мы остановились как раз на теме олимпиад. Елена, очень важно проговорить, что в принципе дает участие в олимпиадах для старших школьников. Баллы для поступления, я так понимаю?
Елена Анашкина-Хуанг
— Кроме всего того, о чем мы говорили, для старших школьников олимпиада дает баллы при поступлении. Это могут быть баллы в личные достижения, наш университет дает баллы в личное достижение за все три олимпиады. При этом олимпиада «Основы православной культуры» входит в перечень министерства науки и высшего образования. Олимпиады этого перечня дают федеральные льготы. У каждого ВУЗа надо уточнять, какие именно льготы он дает за какие олимпиады. Но я знаю, что олимпиада «Основы православной культуры» принимается в РГГУ, у нас в университете, в гуманитарной академии Российской принимается. Победителям финала при сдаче ЕГЭ по истории больше 75 баллов дает сто баллов за профильной ЕГЭ по истории.
Кира Лаврентьева
— Ничего себе. Это интересно, кстати, очень.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да, имеют такие льготы. И плюс я знаю, что наши победители, призеры разных этапов, естественно, в первую очередь заключительных, имеют льготы при посещении лагерей, какие-то курсы, особенно для регионов это очень важно. Многие региональные ВУЗы принимают наши олимпиады и в личные достижения, и, как я уже сказала, «Основы православной культуры» сто балов за ЕГЭ.
Кира Лаврентьева
— Лена, со старшими школьниками понятно, а вообще возраст участия в олимпиаде какой?
Елена Анашкина-Хуанг
— В олимпиаде «Аксиос» дети принимают участие с пятого класса до 11-го. В «Основах православной культуры» с 4-го класса до 11-го. В «Нашем наследии» принимают участие с 1-го класса, там есть отдельный блок. Надо сказать, что это всё происходит в разное время, участвует каждый класс, но с первого класса есть туры для них тоже.
Кира Лаврентьева
— То есть нужно зайти на сайт олимпиад Свято-Тихоновского гуманитарного университета, всё там найти, зарегистрироваться, фактически этим должны родители заниматься, если речь идет о 5-м классе, о 1-м классе.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да, этим занимаются либо родители, либо учителя. В «Основы православной культуры» и в «Нашем наследии» регистрируется взрослый, как правило, учитель. У нас родители обращаются к учителям, либо регистрируются сами, либо учитель их регистрирует и потом загружает результаты. На стартовом уровне эти комплекты проверяют сами учителя, сами организаторы. Иногда учитель проводит для нескольких детей олимпиаду, иногда для одного. Вот пришел ребенок: я нашел такую олимпиаду, хочу поучаствовать, помогите мне, пожалуйста. У нас иногда от школы один человек участвует. Бывает, что от школы участвует 200-300 человек. Иногда один учитель работает в нескольких школах, в одной школе проведет, в другой школе, в воскресной школе еще проведет, и он приводит иногда больше двухсот участников. Мы выкладываем задания и ключи. Учитель раздает детям задание, дети пишут, он потом по эти ключам задание проверяет и загружает на сайт результаты. Так ребенок входит во всю линейку туров олимпиадных. Дальше их уже приглашают муниципальные организаторы, региональные организаторы, мы приглашаем в финал постепенно победителей, призеров. Это касается ОПК и «Нашего наследия». А в «Аксиосе» у нас персональная регистрация. Естественно, младшие регистрируются с помощью родителей, получают задание сами. Как правило, это тестирование в тестовых программах, которые у нас интегрированы в сайт, он проходит тестирование, иногда есть творческая работа небольшая, пишет творческую работу. И потом их приглашаем на очный тур к нам в Свято-Тихоновский университет.
Кира Лаврентьева
— Как интересно. Для иногородних это все-таки сложно, потому что надо будет приезжать.
Елена Анашкина-Хуанг
— На финальных этапах. «Аксиос» условно считается нашей домашней олимпиадой, в ней, тем не менее, ежегодно участвуют больше двух тысяч человек. На эту олимпиаду приезжают, про ОПК и «Наше наследие» молчу, но даже на «Аксиос» с Сахалина были ребята, из Ханты-Мансийска у нас много ребят участвуют. Во всех олимпиадах участвуют ребята со всей страны, тут вопрос в охвате регионов и просто в количестве участников. ОПК и «Наше наследие» это массовые олимпиады, где участвуют больше ста тысяч человек, а в «Аксиос» поменьше, но приезжают люди со всей страны.
Кира Лаврентьева
— Как же эти сто тысяч человек отследить, проверить, Лена?
Елена Анашкина-Хуанг
— Сложно, конечно, сто тысяч человек. Но это школьный этап, дальше количество сокращается.
Кира Лаврентьева
— Там система их отсеивает, я так понимаю.
Елена Анашкина-Хуанг
— Система отсеивает, да. У нас загружается сто тысяч человек.
Кира Лаврентьева
— На онлайн платформах.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да. Сто тысяч результатов загружается, мы выстраиваем настройку отсева призеров, победителей. Победители, призеры приходят, потом мы еще стараемся все-таки отследить фальсифицированные результаты.
Кира Лаврентьева
— Родители помогали/не помогали.
Елена Анашкина-Хуанг
— Ну, хотя бы, учитель загрузил и у него все призеры, мы на этапе школьный тур стараемся связаться, уточнить.
Кира Лаврентьева
— Точно ли это так.
Елена Анашкина-Хуанг
— В муниципалитете мы общаемся уже напрямую с муниципальными организациями, их тоже очень много. На регионе у нас практически нет фальсифицированных результатов, они очень следят за своей репутацией, говорят: вы пригласите потом в финал, а он приедет и ничего не напишет. Они сами проверяют результаты муниципалитетов своих, в этом заинтересованы, очень нам помогают. Эта массовость участников во многом лежит на наших региональных организаторах, которые в это включаются, здесь помогают и епархиальные центры и министерства и департаменты образования, и ВУЗы другие, олимпиады проводятся в регионах их силами.
Кира Лаврентьева
— Финал когда проходит, уже весной, наверное?
Елена Анашкина-Хуанг
— Финал проходит весной. Олимпиада идет весь год.
Кира Лаврентьева
— Сколько человек участвует в финальных соревнованиях олимпиадных?
Елена Анашкина-Хуанг
— В этом году финал проводился для 7-11 классов, 4-6-е завершили в региональном этапе, а старших мы пригласили к нам на финал, и приехало порядка 500 человек.
Кира Лаврентьева
— Немало.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да. Достаточно.
Кира Лаврентьева
— И это всё дает некий бонус для поступления в ВУЗ.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да.
Кира Лаврентьева
— И не только. Плюсы мы уже обговорили.
Елена Анашкина-Хуанг
— Я все-таки настаиваю, что здесь гораздо больше, не только баллы.
Кира Лаврентьева
— Широкий спектр причин.
Елена Анашкина-Хуанг
— Ребята, которые становятся победителями, призерами олимпиад, как правило, пишут ЕГЭ по профильному предмету больше 75-ти. Я знаю, что наши участники пишут и на сто баллов ЕГЭ, им эта скидка не всегда актуальна, здесь мы в первую очередь боремся за общую прокачку знаний, общее умение работать, получать информацию, обрабатывать информацию и выдавать продукт — это сложный процесс и с точки зрения нейрофизиологии. Должна сначала информация пройти, обработаться, выдаться, а тут когнитивная информация, это целый процесс, когда не просто мы на автомате, как рефлекторные дуги, тут все-таки проходит серьезный мыслительный процесс. Я считаю, главное приобретение — это умение работать с этой информацией и умение принимать решения, умение вычленить, проанализировать важное. Про «Наше наследие» тоже рассказывала, там прокачиваются еще такие навыки, как soft skills, которые тоже очень важны, бонусы при поступлении разные, это очень важно с утилитарной составляющей.
Кира Лаврентьева
— Лена, очень интересно. Я сижу, держу себя из последних сил, чтобы не спросить: а почему большинство современных детей сейчас ничего не хотят? А потом подумала: а зачем мне себя держать? Собственно, вопрос озвучен. Лена, почему сейчас настолько резко общество разделилось? Понятно, что еще десять-пятнадцать лет назад были какие-то хулиганы, были дети, которым действительно ничто не интересно. А сейчас это прямо массовая проблема: телефончик, игра, какие-то видео. Я уже стараюсь не задавать этот вопрос про гаджеты, потому что, понятно, проблема большая, каждый родитель решает ее по-своему. Но все-таки ты нейропсихолог, мы всё же говорим о нестандартном мышлении, мы говорим о речи, мышлении, письме, мы говорим о том, чтобы углубляться в знания. И говорить об этом без вопроса, почему многим детям вообще в принципе ничего не хочется, невозможно.
Елена Анашкина-Хуанг
— Невозможно.
Кира Лаврентьева
— Вот я задаю этот банальный избитый вопрос тебе, потому что не понимаю, честно говоря, до сих пор, как на него отвечать, себе самой в первую очередь.
Елена Анашкина-Хуанг
— На мой взгляд, мы очень много стали делать за детей. Мы прямо им... Как мой дедушка говорил: а не плюнуть ли тебе в рот жеванной морковкой? Сейчас действительно у детей нет дефицита, нет нужды. Мозг старается лишнего не расходовать, это очень энергозатратный орган, он лишнего расходовать не будет. Если он сидит, тело сыто, довольно, интересно ему, что-то листается в телефоне, ему ничего больше не надо. Всё, его потребности более-менее закрыты. Именно нужда в чем-то заставляет, взрослого даже, не только ребенка...
Кира Лаврентьева
— Встать и пойти.
Елена Анашкина-Хуанг
— ...куда-то двигаться, что-то делать. Правы были те фантасты, которые писали про избыток в жизни, что именно он будет развращать, а не нужда. Когда у ребенка всё есть, он: а мне еще вот этого, пожалуйста. Как мультфильм про Нехочуху. Взрослому человеку, вот мне, например, бывает сложно, тут вот я дофаминчик свой подкрепила, что-то полистала, тут короткую статеечку прочитала, всё, я насытилась. Мне нужно усилие, чтобы встать, взять книжку толстую такую, не заглянуть сразу в конец, а постепенно, потому что это труд. Но это очень важный труд. Я, опять же, настаиваю, что кроме какого-то сюжета, который мы получаем, сюжет банальный как правило — тот же «Евгений Онегин», сюжет банальный, такой прям, никакой — но мы «Евгения Онегина» читаем не за сюжет.
Кира Лаврентьева
— Да.
Елена Анашкина-Хуанг
— Это и культура речи, это и слог, это и ритм определенный. А наше тело всё ритмизировано. Если у ребенка не ритмизировано что-то, то они приходят ко мне, как правило. Дыхание от ритмизации, сердцебиение от ритмизации, работа кишечника от ритмизации, у мозга тоже есть свои ритмы. И речь — это тоже ритмы. И когда мы читаем стихи, это немножко банальная физиологическая составляющая, это все-таки определенная ритмизация, это дает некоторое спокойствие. Стихи могут успокоить ребенка, песенки-потешки в детстве. Кроме богатого слога, кроме эстетического удовольствия, здесь много-много каких-то импульсов.
Кира Лаврентьева
— Конечно.
Елена Анашкина-Хуанг
— И мы не за сюжет читаем. «Анну Каренину» тоже не за сюжет совсем. Но это еще и возможность избежать психологов в будущем. Человек, который много читает — знаете, как обезьянка видит, обезьянка делает — мозг, когда что-то видит или что-то воображает, задействует те же мозговые центры, как если бы человек делал сам. И человек, прочитывая литературу, набирает себе еще какие-то представления о поведении, о паттерном поведении, о каких-то возможностях, выходах куда-то. Это то, за что мы, психологи, боремся. Я специально эти паттерное поведение — это тоже психологизация — очень растиражировано, очень сейчас на пику поднято. А я говорю, надо читать литературу.
Кира Лаврентьева
— Я обратила внимание, что психологи, которые еще десять лет назад, 13 лет назад, то есть это тогда, когда у нас с тобой примерно родились старшие дети, говорили о теории привязанности. Она действительно важна, она есть, не будем это исключать.
Елена Анашкина-Хуанг
— Конечно.
Кира Лаврентьева
— Это важно. Это, наверное, единственное, что вообще и надо изучить — теорию привязанности. Они говорили о том, как важно создать ребенку максимально комфортные условия, и психологические, и физиологические и всякие разные, чтобы он потом вышел в мир и был суперкрепким. И сейчас эти же психологи говорят о том, что нет, если ребенок не переживает фрустрацию в детстве, если он не знает минимальный стресс и как с этим справляться, если он в принципе не имеет представления о мире, а жил в каком-то коконе, созданном родителями — не дай Бог, его травмировать, не дай Бог его на два дня бабушке оставить, куда же мы от него бедненького уедем, он же будет страдать и скучать — если он эти фрустрационные истории не проходит, то он выходит в большой мир и впадает в анабиоз буквально от первого стресса.
Елена Анашкина-Хуанг
— И всё, да.
Кира Лаврентьева
— И я думаю, хорошие дела.
Елена Анашкина-Хуанг
— Мне кажется, они сказали комфорт, я не спорю, комфортные условия должны быть, но комфортные условия для чего?
Кира Лаврентьева
— Как мы росли.
Елена Анашкина-Хуанг
— Комфортные условия, чтобы прожить стресс. Ты должен прожить стресс. Но одно дело, тебе еще ремнем всыпали и еще там тебя...
Кира Лаврентьева
— Припечатали сверху.
Елена Анашкина-Хуанг
— А другое дело, тебя дома встретили, чаечек тебе налили, разрешили порыдать и сказали: ты, конечно, молодец, но завтра ты пойдешь и извинишься за разбитое стекло. Это комфорт, налить ребенку дома чай и оказать поддержку — это комфорт. Заставить его понести какое-то наказание...
Кира Лаврентьева
— Ответственность за свои поступки.
Елена Анашкина-Хуанг
— ...взять на себя ответственность — это не противоречит комфорту. А нам рассказали, что комфорт, но не рассказали, как. И мы, дети 90-х, для нас комфорт, чтобы нас комфорт, чтобы сесть, чтобы нас приняли, чтобы нас лишний раз не дергали, не ругали. У нас сложное было детство все равно. Может быть, из-за этого, опять же, я только предполагаю, что многие родители в детстве пережили чересчур лишений, нехватку внимания. Тогда многие родители выживали, и дети были вынуждены выживать с ними. Переживя вот это, современные родители стали этот комфорт в первую очередь видеть в физическом комфорте, а не только в поддерживающем, моральном.
Кира Лаврентьева
— Вопрос, Лена. Где этот здоровый стресс, который должен получить ребенок, и все-таки принимающий взрослый рядом? Как это всё балансировать, как найти подход к одному ребенку, к другому, третьему, к пятому, десятому? Они же совершенно разные.
Елена Анашкина-Хуанг
— Ты сама скала: как найти подход. В том-то и дело, что нужно находить подход к каждому, потому что у каждого уровень стресса свой. У меня есть ученики, которым ну, вообще, хоть бы хны, как с гуся вода. А есть, ему чуть-чуть замечание сделал, он напрягся, расстроился. Это, конечно, подход к каждому ребенку. Просто родителям нужно внимательнее, этот комфорт должен быть во внимании к ребенку, которого многим детям 90-х не хватило. Именно внимания. А что будет с точки зрения физического комфорта — это дело десятое. Не десятое, конечно, это базовые потребности.
Кира Лаврентьева
— Но не первое.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да. Я и говорю, когда закрыты базовые потребности, дальше начинается вопрос излишества. Есть где спать, есть что есть, должно быть иногда какое-то баловство: вот я люблю это мороженое, а не то — баловство нужно. Но когда я хочу вот эту игрушку, и тебе сразу покупается эта игрушка, даже если у тебя есть возможность...
Кира Лаврентьева
— Не покупать.
Елена Анашкина-Хуанг
— Не покупать.
Кира Лаврентьева
— О-о-о! Какая интересная мысль. Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдейя». У нас в гостях Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела олимпиад Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Меня зовут Кира Лаврентьева. Вот мы и пришли, кажется, дорогая Елена, к главному секрету воспитания детей — не покупать игрушку сразу.
Елена Анашкина-Хуанг
— Создавать ребенку лишения.
Кира Лаврентьева
— Правда, очень богатые люди, изобретатель телефона Стив Джобс не скрывал, что он своим детям телефона не давал. Действительно, я обращаю внимание, что люди, которые имеют возможность детям создать суперкомфортные условия, держат их в некой аскезе. И что говорить, Романовы, дети царя, государя императора Николая II жили в солдатских условиях. Они спали на жестких кроватях, они принимали холодный душ рано утром, у них целый день были занятия, баловства по минимуму, и еда очень простая была. Это удивительно, но это так.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да, в принципе так и надо. У ребенка должен быть режим, у ребенка должен быть понятный для него график, в котором он существует. Должны быть обязательные предметы, которые он изучает, выбирает, учит. Если ребенок маленький, и он ходит на кружок, и идет не так, я не хочу-у никогда туда идти, но ходит туда...
Кира Лаврентьева
— Счастливый.
Елена Анашкина-Хуанг
— ...радостный, его всё устраивает — это прекрасный вариант. Если семилетка, школьник идет, выбрал, радовался, потом уперся во что-то, и тут родители начинают играть в демократии: ну хорошо, дорогой, конечно, ты можешь не ходить — это не та история. Он должен завершить какой-то промежуток. Пошел в художественную школу, завершил год, написал натюрморт, потом выбирает следующее. Если не выбирает он, то выбирают родители. Обязательно постоянно должно быть что-то кроме учебы. Тут родитель должен проявить стойкость, поддержку: да, сложно, да не очень хочется. Старший школьник может менять кружки, конечно. Мы ставим какую-то задачу. У старшего школьника как раз задача попробовать много, потому что дальше начинается профориентация, дальше выбор ВУЗа. Разные олимпиады помогают познакомиться с разными предметами, с нестандартными школьными задачами. Поэтому я призываю всех участвовать в наших олимпиадах и вообще в олимпиадах и в конкурсах и пробовать себя. Как раз здесь родитель создает комфорт, он ему помогает (волшебный пендель) сходить в мир и вернуться. Про маленьких очень много говорят, а про постарше не так много. Маленький ребенок, когда он отлепляется от мамы, идет, поднимает палку, ему этой палкой хочется куда-то тыкнуть, а ему страшновато, и мама говорит: ну давай, ну попробуй. Берет его ручку, его ручкой тыкает этой палкой куда-то, о, не страшно. Начинает сам в грязи и луже ковыряться. Со взрослым ребенком точно так же, да и со взрослым иногда так же. Просто взрослый выращивает в себе внутреннюю поддержку и может оказать ее себе сам. А подростку эта поддержка в принципе нужна, она уже не только в родителях, она в других значимых взрослых. Я поэтому очень приветствую общение с бабушками и дедушками, потому что как раз дети нулевых были часто оторваны, как ты говорила, что вот мой ребеночек вот эта привязанность, не отдам бабушке на два дня. Другие взрослые дают ребенку очень много, даже если мы с ними не согласны, если они не приносят целенаправленный вред ребенку. Ну, съест он что-то не то, ну, тявкнет на него бабушка как-то не так — это другие взрослые.
Кира Лаврентьева
— Это тоже опыт общения с людьми, который он получает.
Елена Анашкина-Хуанг
— Это близкие, изначально любящие, мы не говорим про маргинальных, все-таки это меньшинство, это всё равно большой круг семьи. Это очень важно ребенку — почувствовать разное. Если есть возможность отдать тете, крестной, бабушке, дедушке, это прекрасно, даже если нам кажется, что они как-то неправильно наших детей воспитывают. Потому что еще чуть-чуть, и в 11, 12, 14 ребенок будет воспитываться так, как ему хочется. Если мы будем его держать, никуда не пускать и будем думать, что только мы в его жизни самые прекрасные, никогда это не случится. Более того, разрыв и сепарация будет максимально болезненная для всех сторон. И когда этот ребенок пробует разные кружки — это то же самое, что он взял палку и ждет, вот он сейчас потыкает и взрослый скажет: да, хорошо получилось. А он приходит и говорит: не получилось. Он говорит: ну давай вместе потыкаем, сейчас, может быть, получится. Когда мы ребенку предлагаем дальше выходить в этот мир и с ним знакомиться уже на более серьезном, профессиональном уровне, уровне каких-то интересов, каких-то хобби. Когда ребенок пробует, он обязательно должен пробовать, прямо условие, что должны быть кружки, должны быть дополнительные занятия, должно быть еще что-то, кроме школы. Школу, конечно, пропускать не очень полезно, но я иногда за то, что когда... Для ребенка это вообще эксперимент, как те психологи говорили: одно, сейчас вроде бы другое, это в принципе эксперимент. Я как школьный учитель говорю: ну пропустите день, сходите, попробуйте еще что-то, потому что здесь уже не удается. У меня были в работе случаи — так я и пришла в нейропсихологию, в клиническую психологию — ребенок талантливый, способный, а у него одни двойки, я говорю, хуже не будет, давайте экспериментировать. У меня было несколько таких детей.
Кира Лаврентьева
— Еще что-то, Лена, это что? Попробуйте еще что-то?
Елена Анашкина-Хуанг
— Попробуйте еще что-то — какие-то кружки. Конструирование. У меня был мальчик страшно любил военные самолеты, самолет летел — мы были как-то возле военной базы, куда выезжали — он говорит, а я знаю, это вот этот самолет. Я говорю: как ты это понял. — А видите, у него хвост вот такой, а у того он такой.
Кира Лаврентьева
— Ничего себе.
Елена Анашкина-Хуанг
— Этому ребенку хорошо, может быть, было бы на конструирование куда-то пойти, в какие-то музеи, при музеях есть очень много кружков. Мы не знаем, куда профессионально это выльется в седьмом классе, но по крайней мере ребенок себя попробует в этом. Как раз это тот случай, когда у него в школе было ни шатко, ни валко, способный мальчишка. Не знаю, к сожалению, как сейчас он, по возрасту должен давно выпуститься. Мы поощряем увлечение детей, пусть он попробует, даже если он разочаруется, ничего страшного, лучше он разочаруется сейчас, а не в 25, когда он закончит высшее учебное заведение.
Кира Лаврентьева
— И поймет, что это вообще не его.
Елена Анашкина-Хуанг
— Лучше сейчас, я максимально за вот это.
Кира Лаврентьева
— Скажи, пожалуйста, по точным наукам, по математическим, есть ли олимпиада в Свято-Тихоновском?
Елена Анашкина-Хуанг
— Да. В Свято-Тихоновском в олимпиаде «Аксиос» есть профиль математика, там только очный профиль, правда. Но, да, по математике есть такая олимпиада. И собственно факультет у нас есть.
Кира Лаврентьева
— Математический?
Елена Анашкина-Хуанг
— Там есть математика, есть направление, по-моему, бакалаврское вычислительных систем и, по-моему, экономическое.
Кира Лаврентьева
— Это очень интересно. Свято-Тихоновский не устает развиваться?
Елена Анашкина-Хуанг
— Да. Собственно, почему я в таких сомнениях? Потому что как раз мы сейчас плотно сотрудничаем с абитуриентским отделом, там в бакалаврских программах что-то они будут менять то ли в этом году, то ли в следующем, что-то они будут развивать, что-то укрупнять. Поэтому здесь у меня точной информации нет, но она вся есть на сайте.
Кира Лаврентьева
— Она вся есть на сайте. То есть где-то к сентябрю всем желающим можно уже начинать регистрироваться? Правильно?
Елена Анашкина-Хуанг
— Да. Хотя бы узнавать, мы вывешиваем календари всех олимпиад, можно будет там посмотреть, написать нам на почту, задать вопрос, ознакомиться с календарем и как-то уже в это дело включаться.
Кира Лаврентьева
— Еще раз, первые тесты — онлайн? Можно из других городов тоже их проходить?
Елена Анашкина-Хуанг
— В «Аксиосе» первые тесты онлайн, они будут открываться в октябре. «Основы православной культуры» и «Наше наследие» это не онлайн тесты, это задания, которые скачиваются с сайта, на месте ребенок решает, кто-то из взрослых по нашим ключам, которые мы предоставляем, проверяет, нам присылает балл такой-то, на столько-то баллов написал.
Кира Лаврентьева
— Лена, у меня к тебе еще один вопрос, как к нейропсихологу, и как к человеку, который постоянно взаимодействует со студентами, школьниками. Скажи, пожалуйста, если действительно наступил тот самый 11 класс, ЕГЭ мы пишем, но куда поступать, человек вообще не имеет никакого представления. Так бывает. Что делать в такой ситуации? Поступать абы куда и уже потом разбираться по ходу? Или что, к психологу, профориентирование? Этим же всем раньше надо было заниматься.
Елена Анашкина-Хуанг
— Да, тут такой запущенный случай. Иногда бывает, что ребенок всегда думал, что он будет поступать туда, а потом вдруг...
Кира Лаврентьева
— Вот, в последний момент передумал.
Елена Анашкина-Хуанг
— В последний момент передумал. Это понятно, в 17-18 лет достаточно сложно принять решение всей своей жизни. Во-первых, нужно снять напряжение и сказать ребенку, что это не решение всей его жизни вообще-то. Можно и перепоступить, и существуют училища и курсы повышения квалификации. Решение, которое он принимает сейчас, конечно, с точки зрения самого подростка, на всю жизнь. Но взрослый опытный, я надеюсь, который рядом с ним, должен снять это напряжение, что это не на всю жизнь. Во-первых, это действительно не на всю жизнь. Можно уйти из ВУЗа, можно перепоступить, можно пересдать ЕГЭ, можно, в конце концов, поработать и заработать на какое-то на платное образование. Если ребенок сомневается и в принципе был бы не против поступать туда, куда планировал, но сомневается, я бы советовала поступить. Если ребенок точно сказал: нет, никогда в жизни, я ходил на подготовительный курс, меня просто тошнит от этого, то естественно, абы куда, лучше не поступать. Если есть возможность, взять год, поготовиться, походить на подготовительные курсы, очень у многих ВУЗов есть дополнительный курс. У нас, например, в ВУЗе есть дополнительный, кстати, иногда интегрированный с олимпиадой, мы провели фестиваль, у нас есть фестивали и есть гуманитарные школы, в которых участвуют школьники. Например, гуманитарная школа позволяет на три дня ребенку, выпускнику уже, почувствовать себя студентом. У нас была последняя школа Вселенских Соборов, я, к сожалению, на ней не была, но видела записи и отзывы, она прошла совершенно замечательно. Они в конце реконструировали заседание Первого Вселенского Собора, там было две партии, они там отстаивали свои догматические убеждения, это всё было очень весело и задорно. Перед этим они два дня набирали информацию, готовились, ходили на пары. Это возможность попробовать себя, например, в исторической богословской науке. Это еще не наука, но это уже что-то, что познакомит ребенка. Если есть возможность взять этот год, то нужно взять этот год вот на такие фестивали, на такие школы. Многие ВУЗы их проводят. Не только олимпиады, есть конкурсы творческих работ, куда дети пишут сочинения. Есть репортерские конкурсы. Попробовать, познакомиться с теми ВУЗами, в которые хотелось бы, изнутри через участие в этих школах, научных собраниях для школьников, для абитуриентов. Это много ребенку даст. Но надо смотреть правде в глаза, мальчикам надо иногда идти в армию, и какие-то бытовые финансовые вопросы. Тогда решение принимается в частном порядке. Поступить стоит, если нет отторжения, куда планировал, и этот год попутно смотреть, куда бы еще хотелось, участвуя в том, о чем я говорила уже, во внутренних мероприятиях для абитуриентов. И может быть, на следующий год либо перевестись, либо ЕГЭ пересдать и поступить заново. Опять же, первое поступление не навсегда.
Кира Лаврентьева
— Спасибо огромное. Дорогие друзья, напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А я с радостью напоминаю вам, что у нас в этом часе была Елена Анашкина-Хуанг, руководитель отдела олимпиад Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, детский нейропсихолог. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. А тебя, Лена, от всей души благодарим и желаем помощи Божией и творческих взлетов. Спасибо большое.
Елена Анашкина-Хуанг
— Спасибо большое.
Кира Лаврентьева
— Да свиданья.
Елена Анашкина-Хуанг
— До свиданья.
Все выпуски программы Пайдейя
Точная диагностика — залог успешного лечения

Любое лечение начинается с верно поставленного диагноза. А правильное обследование помогает подобрать нужную терапию. Однако не всегда точная диагностика доступна родителям, чьи дети столкнулись со сложными диагнозами. Если речь идёт про онкологические заболевания — цена исследований может быть весьма велика.
Благотворительный фонд «Свет.дети» оплачивает диагностику для детей на разных этапах лечения. Благодаря проекту «Быть точным» организация помогает пройти высокоточные обследования, сдать анализы для подбора донора, попасть на консультацию к ведущим специалистам. Всё это — огромный шаг на пути к выздоровлению. И количество обращение в проект с каждым днём растёт.
Чтобы регулярно помогать семьям с участием в необходимых процедурах, а врачам быть точными в лечении, фонд «Свет.дети» предлагает стать частью своего сообщества и подарить шанс на своевременное лечение.
Подробную информацию можно найти на сайте фонда.
«Неделя о мытаре и фарисее». Протоиерей Максим Первозванский

Еженедельно в программе «Седмица» мы говорим о праздниках и днях памяти святых на предстоящей неделе.
У нас в гостях был клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников протоиерей Максим Первозванский.
В этот раз разговор шел о смыслах и особенностях богослужения и Апостольского (2Тим.3:10-15) и Евангельского (Лк.18:10-14) чтений в «Неделю о мытаре и фарисее», о днях памяти преподобного Макария Великого, преподобного Евфимия Великого, священномученика Климента (епископа Анкирского) и мученика Агафангела Римлянина, мучеников Инны Пинны и Риммы, блаженной Ксении Петербургской, священномученика Владимира (митрополита Киевского), преподобного Максима Грека.
Ведущая: Марина Борисова
Все выпуски программы Седмица
«Семья — малая церковь». Протоиерей Константин Харитонов

В программе «Семейный час» — беседа с протоиереем Константином Харитоновым, настоятелем подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет.
Тема выпуска — «семья как малая церковь»: её ценности, реликвии, церковный календарь и пост. Отец Константин говорит о том, почему эта формула часто остаётся «на словах», и размышляет, какой уклад и какие отношения помогают сохранять веру в семье и передавать её детям.
В беседе звучат примеры того, что может стать частью семейной традиции: молитва перед трапезой и после неё, совместные праздники, дела милосердия, память о родных и сохранение семейных реликвий. Отдельно отец Константин рассказывает о мерных иконах и о том, как через такие предметы поддерживается связь поколений.
Также в программе говорится о том, как семья связана с приходской жизнью: общая молитва, участие в делах прихода, трапезы и поздравления, поддержка детей и подростков в церковной среде. Кроме того, обсуждаются пост и воздержание как опыт, который важно передавать не только словами, но и личным примером.
Ведущая: Анна Леонтьева
Все выпуски программы Семейный час