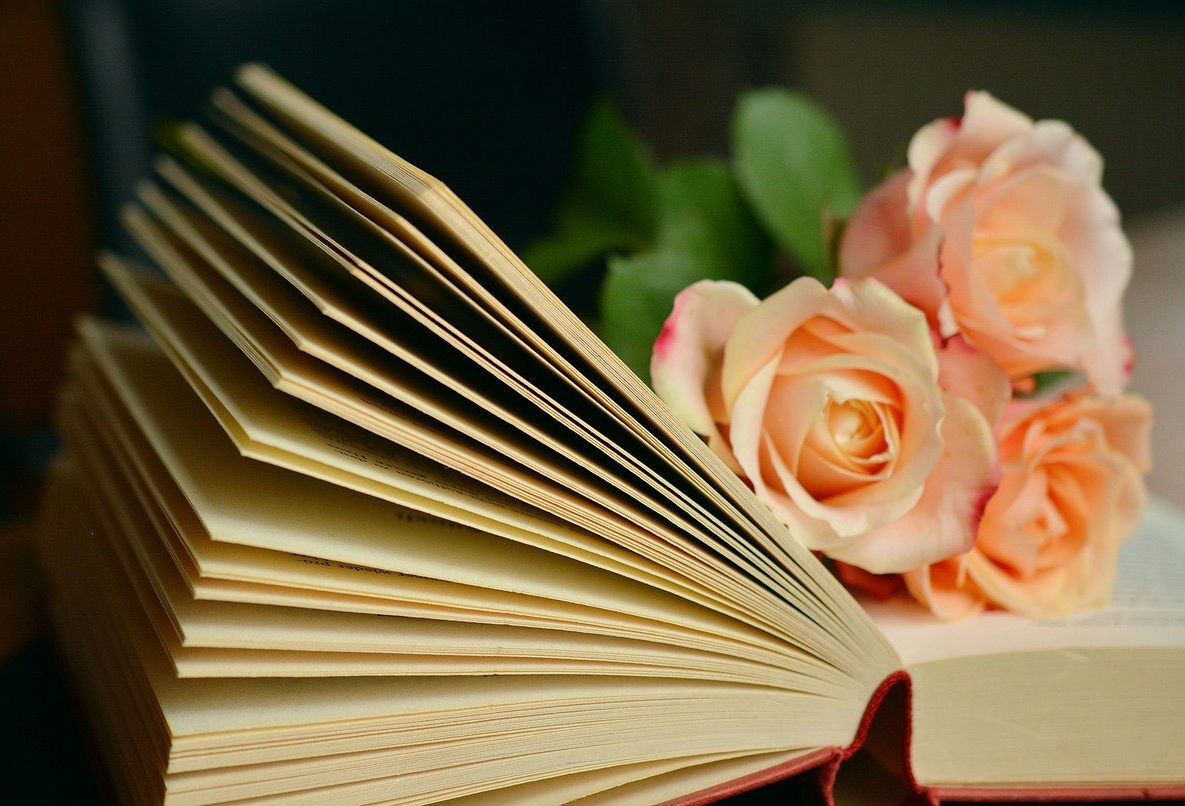
Те из вас, друзья, кто видел фильм Тарковского «Андрей Рублев» — о нашем великом, прославленном церковью в лике преподобных иконописце, — возможно, помнят самое начало кинокартины: странный, чуть-чуть азиатского типа мужик пробует полёт на самодельном воздушном шаре и с ликующем криком «летю-ю!» — падает, как Икар, на землю. Этого мужика в «Андрее Рублёве» сыграл замечательный поэт Николай Глазков; «поэт-скоморох», «поэт-юродивый», как его называли при жизни и после смерти в узких, так сказать, кругах. Это именно он придумал ёмкое словечко «самиздат» (точнее «самсебяиздат»), это он написал во второй половине 1940-х годов хорошо известные многим любителям поэзии крылатые строки:
...И на мир взираю из-под столика:
Век двадцатый, век необычайный, —
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней...
В 2020 году, к столетию самобытнейшего из советских поэтов (а у Глазкова выходили, помимо «самиздатских» и советские официальные сборники), так вот, в 2020-м, к столетию со дня рождения Николая Ивановича, этого «поэта-скомороха», «поэта-гуляки» — вышел том его избранной поэзии, составленный сыном.
...Я хочу прочитать одно большое глазковское стихотворение именно из этой книжки, в советские оно — не входило. Но прежде — крохотный этюд Глазкова как штрих к его — выберу слова — духовной судьбе. И сразу замечу, что в звуке своём, в интонации своей, — я сразу узнаю здесь глазковский и только глазковский голос:
Вижу церковь и колокольню.
Что их нету — вообразили.
Ну, а может быть, в этом корни
Всего, что теперь в России.
Николай Глазков, 1943 год. Из книги избранных стихотворений «Поэт ненаступившей эры», Москва, 2020 год
Ну а теперь — большое стихотворение Глазкова, написанное им, судя по всему, тоже в 1940-е годы. Называется оно: «Псалом».
В стихах ничего лишнего —
И в этом моё спасенье,
Живущий под кроной Всевышнего,
Под самой надёжной сенью.
Шатаюсь, как все, по городу,
Кто знает чего не выдумаю,
Но я говорю Господу:
Прибежище моё и защита моя.
А в своих стихах своего лица
Не могу я иметь разве?
Он избавит меня от сети ловца
И от гибельной язвы...
Всё равно, где минус и где плюс.
Всё пускай вверх дном,
Ужасов в ночи не убоюсь
И стрелы, летящей днём.
Язвы, ходящей во мраке,
Заразы, опустошающей в полдень, —
И уцелею в драке,
Чтоб путь до конца был пройден.
Скажу, что Господь — моё упованье,
Всевышнего я избрал своим прибежищем.
Когда доживу я до пированья,
То быть перестану посмешищем.
Не приключится мне зло,
Язва не приблизится к тели́щу.
Дал Господь поэта ремесло —
Голос Господа я слышу.
Наступлю на аспида и василиска,
Попирать буду льва и дракона.
Будет победа близко
Мне, как поэту, знакома.
За то, что имя Его познал,
Не спросит, зачем я стихи писал.
Любовная лодка не разобьётся о быт,
Господь Бог,
Он всё видит, всё знает.
На Него я надеюсь. Не буду убит.
Он избавит меня и прославит.
И пускай я теперь где-нибудь на дне,
Ощущаю своё воскрешение:
Он насытит меня долготою дней
И мне явит моё спасение.
Николай Глазков, «Псалом». Из книги «Поэт ненаступившей эры», 2020 год
Все выпуски программы Рифмы жизни
1 февраля. О служении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Сегодня 1 февраля. День интронизации в 2009 году Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
О служении Патриарха — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
Все выпуски программы Актуальная тема
1 февраля. О наставлениях преподобного Макария Великого о пути в Царствие Небесное

О наставлениях преподобного Макария Великого, жившего в четвёртом веке, о пути в Царствие Небесное в день его памяти — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.
Все выпуски программы Актуальная тема
1 февраля. О личности и служении Августина де Бетанкура

Сегодня 1 февраля. В этот день в 1758 году родился испанский и российский государственный деятель Августин де Бетанкур.
О его личности и служении — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.
Все выпуски программы Актуальная тема













