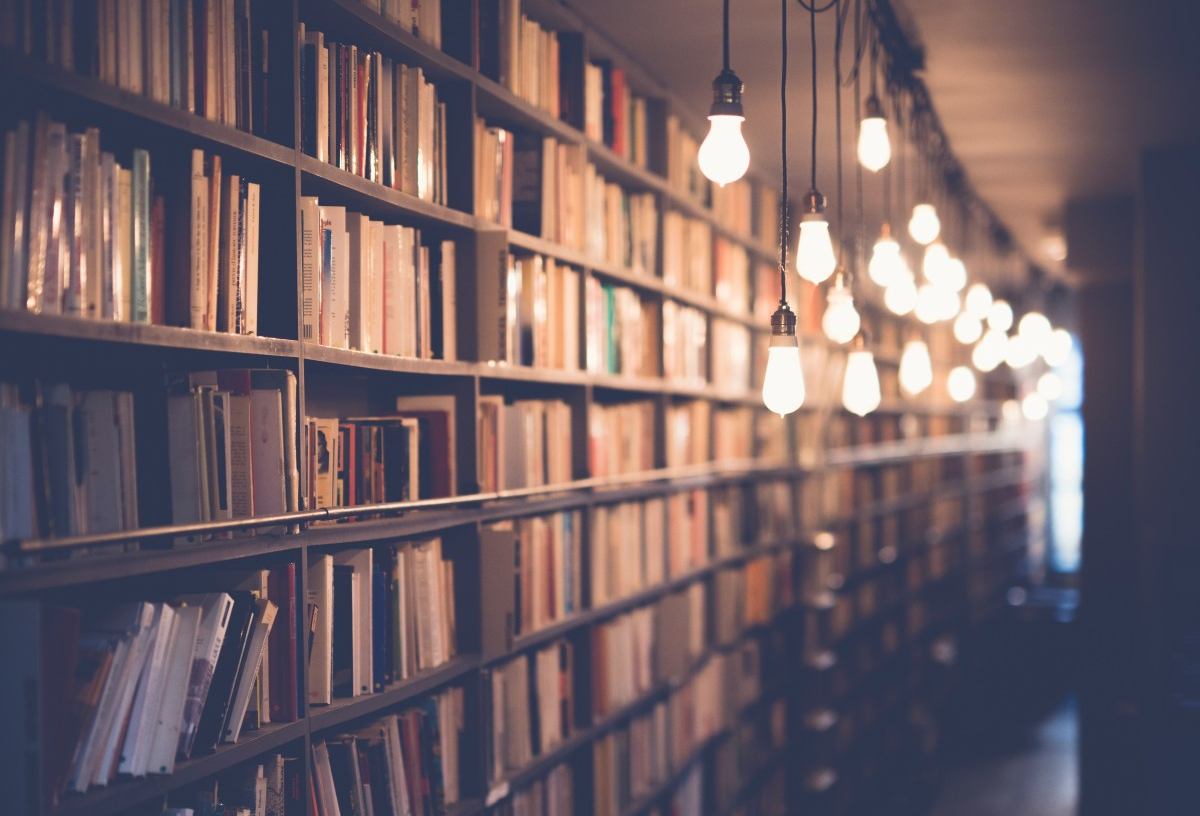
Гость программы — Кира Преображенская, доцент Русской христианской гуманитарной академии имени Ф. М. Достоевского, кандидат философких наук.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим в нашем эфире о Владимире Николаевиче Лосском, как богослове и человеке. У нас сегодня в гостях доцент Российской христианской гуманитарной академии имени Достоевского, кандидат философских наук Кира Владиславовна Преображенская. Здравствуйте, Кира.
К. Преображенская
— Здравствуйте, Алексей Павлович. Приветствую вас, дорогие слушатели.
А. Козырев
— Кира Владиславовна не только философ (кстати, насколько я помню, ваша диссертация была посвящена Владимиру Лосскому), но и человек, который регулярно выступает по радио, но в Петербурге. Она наш гость сегодня из города на Неве или, как теперь говорят, «из столицы на Неве», где тоже слушают радиостанцию «Вера». Слушают радиостанцию?
К. Преображенская
— Обязательно, да, она у нас пользуется большой популярностью, и моя авторская передача на «Радио России», что интересно, тоже называется «Территория веры», так что мы с вами коллеги.
А. Козырев
— Да, да. У нас территория Андреевского монастыря, который тоже в истории русского образования играет важную роль, поскольку здесь была первая школа и первые курсы по философии читались в XVII веке. Ну вот, действительно, Лосский — это уже век XX, и когда говоришь «Лосский», то часто переспрашивают: «Николай Онуфревич»? Это был очень известный философ в своё время, профессор Санкт-Петербургского, потом Петроградского университета, философ-интуитивист, которого выслали из страны на «философском пароходе», присно поминаемом, в 1922 году. Владимир Николаевич Лосский имел к нему отношение?
К. Преображенская
— Да, Владимир Николаевич — это один из сыновей Николая Онуфревича. У него было трое сыновей, и все были выдающимися личностями. И Владимир Николаевич, поскольку ему довелось быть как бы наследником русского философа, он, на самом деле, к этому относился скорее отрицательно. Мы, многие, знаем, что Владимир Николаевич участвовал в известном «споре о Софии» и выступил с осуждением софийного учения Сергея Николаевича Булгакова, и поэтому у него в принципе к русской философии было такое немножко отношение не то, что подозрительное, но он очень не хотел, чтобы его сравнивали с русской философией, с философией его отца, и он мягко всегда отходил в сторону.
А. Козырев
— Вступил в конфликт. С отцом, по-моему, не очень сильный конфликт был, хотя тоже отец потребовал объяснений, но вот с философами конфликт был явный, и, насколько я знаю, Владимир Николаевич никогда не покидал Московской Патриархии, да?
К. Преображенская
— Да, никогда не покидал, хотя мы знаем, что знаменитый французский медиевист Этьен Жильсон в каком-то смысле был учеником Лосского. Он, по-моему, даже признавался, что какие-то вещи приобрёл в понимание от него, и многие историки богословия XX века также говорят, что Лосский во многом писал для западного христианина, для католиков и для православных. Понятно, что он отстаивал принципы православного богословия, но он подразумевал, что те русские приверженцы философской традиции мысли, они его не понимают, не принимают, и, возможно, не слышат.
А. Козырев
— Прямо скажем, как один из основателей «Фотиевского братства», он вместе со своими товарищами хотел воцерковить в православие Западную Европу, поэтому писал по-французски и даже перевёл на французский язык многие богослужения Русской Православной Церкви, насколько я знаю.
К. Преображенская
— Я вот об этих деталях не знаю, но это очень было в его духе. Действительно, Владимир Николаевич был человек глубокой веры, которая была неразрывна для него с практической жизнью.
А. Козырев
— Я, кстати, вот вспомню, может быть, тексты Владимира Лосского мы даже раньше читали, чем тексты многих русских философов, потому что переводы его работ, выполненные Верой Александровной Рещиковой, публиковались на страницах «Богословских трудов», это было издание Московской Патриархии, которое выходило в советские годы. Конечно, в обычной библиотеке это найти было невозможно, но вот в специализированных библиотеках, в библиотеке Московского университета эти тетрадки «Богословских трудов» были, и многие, уже ставшие классическими его работы о православии, как, например, «Мистическое богословие», всё это было опубликовано в советские годы на страницах советского богословского журнала.
К. Преображенская
— Вы знаете, прошло очень много лет, не один десяток даже, но вот до сих пор я своим студентам, когда необходимо говорить о православном учении, всё-таки рекомендую именно труды Владимира Николаевича, потому что, на мой взгляд, там очень понятно, очень чётко и в то же время очень глубоко сказано об основах восточно-христианского учения. Ещё я хотела бы добавить, что при том, что мы Владимира Лосского воспринимаем, как такого очень строгого богослова, в его богословской мысли есть очень интересные идеи. Ну вот, например, у него есть статья или очерк «Господство и Царство», где он говорит о том, что Господь не может пониматься в прямом смысле как всемогущий, потому что Он не управляет миром, а наоборот, Он как бы ограничивает Своё всемогущество, чтобы дать свободу человеку. И на мой взгляд, Лосский потому является открывателем христианской антропологии, что всё-таки в его умозрении человек в центре его внимания.
А. Козырев
— Но это не Бердяевская идея, который говорил «Не в силе Бог, но в правде», была у него такая фраза?
К. Преображенская
— Да, отчасти, у Николая Александровича это есть, просто Лосский же ещё полемизировал как раз с Бердяевым, потому что у Бердяева была такая мысль, есть даже его статья о христианской антропологии, где он говорит, что Бога можно познавать, ориентируясь на человека. То есть вот человек, будучи образом Божьим, его образ, то есть человеческий, может нас привести к аналогии с образом Божьим. А Владимир Лосский считал, что это ни в коем случае неприемлемо, что антропология — это продолжение, я бы сказала, тринитарной догматики, то есть догматика основная — это уже путь к пониманию человека.
А. Козырев
— Ну, как в чине панихиды говорится: «Бога невозможно видети, на Него не смеют и чини ангельстии взирати», то есть, конечно, идти от человека к Богу и думать, что Бог такой же, как мы — это, наверное, неверный путь, неправильный путь. Даже при том, что человек несёт в себе образ Божий, это не значит, что этот образ является копией первообраза и столь же достоин, и столь же велик, и столь же прекрасен, как первообраз.
К. Преображенская
— Да-да, именно об этом идёт речь, и антропоморфизм, вот то, о чём мы говорили, то есть попытка приложить образ человека к Богу — это, конечно, недостойно настоящей богословской традиции.
А. Козырев
-Ну, иногда делали иконописцы: «старец Ветхий деньми», когда Бога изображают в виде старца, вот такая «Новозаветная Троица», как это называют, но это всё-таки какие-то нарушения.
К. Преображенская
— Но это символические же вещи, они, конечно, в прямую логику не попадают, а вот богословие — это очень тонкая вещь, там должна быть и отчасти прямая логика, поэтому там очень строго всё.
А. Козырев
— А как сложилась судьба Лосского, то есть он уже получил какое-то образование в эмиграции, да?
К. Преображенская
— Да, я насколько поняла, что как раз после того, как они выехали всей семьёй, по-моему, в Чехии он учился, а впоследствии они переехали в Париж, и, собственно, Владимир Лосский там с семьёй и остался, женился, у них родилось четверо детей.
А. Козырев
— Он закончил Сорбонну, насколько я помню, защитил диссертацию, посвящённую Мейстеру Экхарту.
К. Преображенская
— Да, да, но вот диссертация уже докторская, это такое последнее его масштабное произведение, которое вышло в 1960 году в Париже, и у нас тоже издавалось отрывками в переводах на русский язык, но всё-таки, мне кажется, это произведение до конца не прозвучало, оно очень большое, сложное.
А. Козырев
— Но всё-таки оно было написано раньше, не в 60-х, издали уже текст после его смерти, который был в молодости написан, но тоже интересный факт, что вот такой ревнитель православия и крупнейший православный богослов XX века, может быть, рядом можно отца Георгия Флоровского поставить, но начинал свой научный путь с работы о западном мистике, о Мейстере Экхарте.
К. Преображенская
— Да, у него была такая задумка, которая конкретно вот в этой работе о Мейстере Экхарте не совсем осуществилась, но задумка была — сопоставить два магистральных явления одной эпохи и одной христианской традиции, это мировоззрение Мейстера Экхарта и энергийное богословие Григория Паламы. По мысли Владимира Лосского, тот мистический опыт, о котором говорил Мейстер Экхарт, он энергиен по своему содержанию, но поскольку Мейстер Экхарт вырос в католическом богословии и не имел инструментария, чтобы выразить эти идеи, он начал их выражать католическим языком, и это привело к ереси, по сути, потому что Экхарт говорит о том, что вот человек должен развоплотиться и вернуться к некоему такому состоянию безопределенности, которое когда-то было и состоянием Бога.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — доцент РХГА имени Достоевского из Петербурга, кандидат философских наук Кира Преображенская. Мы сегодня говорим о Владимире Николаевиче Лосском, как человеке и богослове. Может быть, и о Николае нужно было бы поговорить, но сегодня говорим о Владимире, о Николае у нас ещё не было передачи, но это отдельная тема, отдельная судьба, и, кстати, замечательные воспоминания Николая Онуфриевича, где и его сын присутствует тоже. А вот Владимир оставлял какие-то документальные свидетельства о своей жизни, может быть, дневники или какие-то воспоминания?
К. Преображенская
— Да, вы знаете, я так понимаю, что, возможно, он вёл какой-то дневник богословский, но вот до нас дошло такое интересное произведение, это его биографические заметки «Семь дней на дорогах Франции», которые посвящены событиям Второй мировой войны, когда немецкие войска подошли к Парижу, и парижане вынуждены были покинуть город, и Владимир Лосский, наряду с обычными парижанами, пытался присоединиться к какому-то ополчению или вступить в армию, но царила такая разруха и хаос, что было невозможно ни к чему примкнуть, и вот он описал эти семь дней своих странствий, когда он пытался что-то сделать для защиты своей второй Родины, Францию он считал своей Родиной по существу, и в конце концов, всё-таки, насколько я помню, воссоединился с семьёй.
А. Козырев
— Но ведь многие остались в Париже, ведь Париж сдали без боя, туда немцы вошли, фактически им были открыты врата, и многие философы, и профессора СанСерж остались, а у него было движение, порыв, что ни в коем случае нельзя оставаться под врагом.
К. Преображенская
— Да, вот как раз первые страницы этих дневников были посвящены теме того, что он не понимает, почему не защищают Париж, что вот он был готов встать на баррикады, в сопротивление, но он это описывал так, что французское государство, как институция, внезапно рассыпалось, и граждане объединялись так, как им казалось наиболее естественным, то есть кто-то остался, кто-то решил искать, где же ополчение это все-таки будет и сопротивляться врагу, ну вот действительно это очень интересный сюжет.
А. Козырев
— Ну не было Жанны Д’Арк, я думаю, в этом была проблема, что не было Жанны Д’Арк.
К. Преображенская
— Да, действительно, Жанны Д’Арк не было, и один из персонажей символических этих заметок «Семь дней на дорогах Франции» — это как раз святые Франции, конечно же, и Жанна Д’Арк, и святая Женевьева, которые в тяжелые исторические моменты при помощи Божьей помогали спасать Францию, а вот в 40-м году выяснилось, что они не могут спасти.
А. Козырев
— И многие русские эмигранты или русские, живущие в Париже, помогали, если не спасти, то обнаружить мощи великих святых и реликвии. Я сам помню, как один мой знакомый священник, отец Николай из Сарова, обнаружил мощи святой Елены в церкви на улице Сен-Дени, и эти мощи находились на 20-метровой высоте, никто к ним не мог прикоснуться и даже никто не помнил, что эти мощи там были. И вот после того, как эти мощи оттуда с его помощью достали и спустили в крипт, в крипте возникла православная часовня, где православные стали собираться и служить по субботам литургию на этих мощах фактически.
К. Преображенская
— Вот эта история навела меня на интересный сюжет как раз из вот этих биографических заметок. Когда Владимир Лосский оказался в Орлеане, он зашел в один из соборов, думал, что он там находится один, но услышал голос и увидел такую сцену, которая на него произвела огромное впечатление: старый дворянин французский, такой вот изысканный, бледный, бросал упреки святым в храме и кричал: «Как вы могли нас оставить, как это возможно? Почему вы не заступаетесь?!» И Лосский говорил о том, что возможно, со стороны это выглядело как кощунство, но он это понял как свидетельство очень живой веры, и со своей стороны он задумался вот над чем: мы же всегда хотим справедливости человеческой, благополучия для Родины, для мира, но вот эти человеческие пути, они не всегда совпадают с путями Божьими и с путями святых, а святые, они ходят дорогами Божьими, и в этом причина, почему вот когда-то они вступаются за народ, а когда-то они остаются безучастными.
А. Козырев
— Ну и потом, наверное, есть такое слово «попущение», то есть вот Бог не мстит никому и не творит зла, естественно, но Он попускает за какие-то наши грехи или за какое-то наше несовершенство совершаться чему-то такому, что нами воспринимается как кара, как наказание, а война, безусловно, относится к таким событиям, которые не могут нас радовать и не могут приниматься нами как должное, но, тем не менее, это тоже, наверное, может рассматриваться как одно из попущений Божьих.
К. Преображенская
— И еще он пришел к такой интересной мысли, что французская культура, она же формируется и галльским духом, и римским духом, и вот о чем мы говорили, что во время войны правительство Франции, по сути, рассыпалось, то есть рассыпалась структурная часть — римская, и Франция должна была как бы загореться вот этим галльским духом, и, естественно, он в размышлениях дает некоторую критику вот этого римского схоластического духа, и когда я читала, то подумала, что это так похоже на то, что писал Иван Васильевич Киреевский, и это удивительно, что русские мыслители — Лосский, конечно, во многом считался французом, но по сути, я уверена, он все-таки был русским мыслителем, — все они мыслят как бы в одной историософской модели, что вот Святая Русь — это не то, что мы наблюдаем здесь и сейчас как конституцию, а это некая духовная реальность, и римский дух, вот что критиковали и славянофилы, и Лосский критикует — это начало формализма, оно в русской культуре всегда прочитывается как-то не очень.
А. Козырев
— Формализм, рационализм, когда разум понимается, как такой меч обоюдоострый, который все должен точно разрезать, как раньше в магазине спрашивали: «Вам сколько масла, 300 или 350 грамм?», а опытные такие, они резали, как бог на душу положит, вот здесь вот четко отрезать, чтобы ни вправо и ни влево, это немножко такой западный рассекающий нож, рассекающее рацио...
К. Преображенская
— Вы знаете, такой прекрасный доходчивый образ, я его сохраню для себя, пожалуй.
А. Козырев
— Да, да. Так что, конечно, вот этот опыт Святой Руси, наверное, был заложен еще в России, потому что им какое-то время довелось там прожить, и он уехал туда не абсолютным французом.
К. Преображенская
— Я уверена, что у него болела душа о России, которую он утратил в связи с революцией и в связи со своей эмиграцией, и в-третьих, он ее утратил в связи с тем, что, по сути, его жизнь выбросила из русской культурной среды в Париже той эпохи, и, конечно, это очень чувствуется. И если говорить, вот мы заявили тему «Владимир Лосский — богослов и человек», мне очень импонирует, что Владимир Лосский, он и богослов, и человек на всех страницах своих произведений. То есть понятно, в биографических заметках он более свободно высказывается, как человек, очень искренний, открытый, абсолютно вот неформализованный, незашоренный, и если мы читаем даже вот эти его классические работы — «Очерки мистического богословия Восточной Церкви», мы тоже видим, что это во многом неформальное произведение, и там ведётся очень глубокий разговор. Ну, например, о том, в чём духовный смысл креационизма, вот творение из ничего, что это абсолютно другая антологическая перспектива в сравнении с Поздней Античностью.
А. Козырев
— Вот вы сравнили его с Киреевским — действительно, Киреевский, хоть и был ранний славянофил, но это философ во многом очень современный, и некоторые его мысли, даже сейчас их перечитываешь, они в середине XIX века написаны: «Возвести разум до сочувственного согласия с верой», как красиво сказано. А потом, он говорит о том, что нам нужно опираться на святых отцов, но святые отцы многих проблем, которые сейчас возникли, в наш век (а уж у нас-то тем более, в век технологии и цифровизации), просто знать не могли, и надо святых отцов перечитать применительно к потребностям нашего времени, вот эта мысль Киреевского. А у Лосского тоже эта мысль выражалась?
К. Преображенская
— Безусловно, она выражалась, но я бы здесь, знаете, ещё один ракурс затронула, тот же, что общий и у Киреевского и у Лосского. Дело в том, что у Ивана Васильевича учение о цельном разуме подразумевает не просто теоретизацию, а, собственно, христианскую практику покаяния и участия в жизни Церкви, то есть истинное познание даётся через мистическое участие в жизни Церкви. У Владимира Лосского есть даже такая фраза в одной из статей: «Богословие — это мистика», то есть в его теоретических формулах живая жизнь в Церкви — это синоним богословия.
А. Козырев
— Мистика в том смысле, что слово «мистика» означает что-то сокрытое от нас, таинственное, так же, как таинство называют мистериальной жизнью Церкви. То есть в богословии есть действительно то, что мы не можем открыть, не можем всё показать рационально. Если бы Троицу можно было вывести, как дедукцию Гегеля, то, наверное, и никакой жизни Церкви не нужно было бы. Нужно было бы взять книгу просто и прочитать. А есть вещи, которые открываются лишь в сокрытом, то есть существуют в такой таинственной форме, и к ним можно только приобщиться.
К. Преображенская
— Да, вот «приобщиться» — это очень правильный термин, потому что мистический опыт, мы говорим именно об опыте, опыте богообщения, он подразумевает вот это приобщение. Мы с вами, зная учение Григория Паламы, понимаем, что это энергийное общение двух субъектов: личности абсолютной и личности человеческой, и вот к этому аспекту Владимир Лосский, то есть к практическому аспекту богословия, был чрезвычайно чуток, и в этом как раз залог его интереса к исихазму. Я хочу сказать, что неопатристическая традиция, она обращалась к исихазму, но вот у Владимира Лосского я вижу такой очень антропологический именно акцент, что это дает смысл человеческому существованию, вот эта возможность живого богообщения.
А. Козырев
— Его вообще, наверное, очень интересовала тайна человеческой личности, да? Личность — это же не что-то абсолютно простое, здесь есть и природа, и ипостась, они каким-то образом сочетаются друг с другом.
К. Преображенская
— Да, это очень интересная тема. Я не знаю, как сейчас в классическом богословии православном, но когда я защищала диссертацию о Владимире Лосском, это было в начале 2000-х годов, я помню, встречалась с богословами нашими православными, и они мне говорили: «Вы знаете, не всё так просто, очень уж смело вот это богословие о личности, о природе, что Владимир Лосский, он как бы вот может быть на грани». Сейчас, насколько я понимаю, чуть проще к этому относятся, может быть, стало более привычным. Но действительно, у Лосского есть очень чёткая мысль о том, что вот как в тринитарном богословии мы различаем единую природу или сущность и личности, точно такое же различие можем найти и в антропологии.
А. Козырев
— Мы говорим сегодня об интереснейшем представителе богословской мысли русского зарубежья, а вообще-то говоря, и нашей Церкви, потому что Владимир Николаевич Лосский никогда не покидал приходов Московской Патриархии и был членом московской Церкви, мы говорим о Владимире Лосском с доцентом РХГА имени Достоевского Кирой Владиславовной Преображенской, и после небольшой паузы мы вернёмся в эфир Светлого радио, Радио ВЕРА, и продолжим наш разговор в «Философских ночах».
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — доцент Русской христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского, кандидат философских наук Кира Владиславовна Преображенская. Мы говорим сегодня о Владимире Лосском, как богослове и как человеке. Много аспектов, которые хотелось бы затронуть. Вот, например, мы уже сказали о том, что он не перешел со многими деятелями русской миграции в Константинопольскую юрисдикцию. Как, впрочем, и Бердяев, с которым он люто иногда сражался, оставался прихожанином Трехсвятительского подворья на рю Петель Московской Патриархии. Ну, вот его отношения с митрополитом Сергием (Старгородским), что-то можете про это сказать?
К. Преображенская
— Я детально, конечно, не знаю, но, насколько я поняла, когда речь зашла о софиологической доктрине отца Сергия Булгакова, митрополит Сергий как раз обратился к Владимиру Лосскому для получения богословского комментария на эту тему, и мы видим, что официальное суждение Церкви относительно софиологии, оно по всем пунктам совпадает с тем, что подготовил Владимир Лосский.
А. Козырев
— Вместе с Алексеем Ставровским.
К. Преображенская
— Да, да.
А. Козырев
— Есть такая книга, которая была издана в 1947 году в память о патриархе уже Сергии, уже он стал патриархом за год до смерти, о его наследии, и там есть большая статья Владимира Лосского, и есть письма Патриарха Сергия, тогда еще митрополита, Владимиру Николаевичу Лосскому.
К. Преображенская
— Надо же, я даже не знала об этом.
А. Козырев
— Они не подписаны, но там обращение: «Многоуважаемый Владимир Николаевич», то есть эти письма совершенно точно Лосскому, и из этих писем многое становится ясным и в плане критики софиологии, и в плане того, что он вообще уповает на этих русских мальчиков, они ведь фактически были молодыми людьми, и считает, что они являются вот тем якорем русского православия в Европе, за который можно зацепиться, а тогда это важно было зацепиться, поскольку гонения жесточайшие были на Церковь, и любая международная поддержка православия была важна, и митрополит Сергий, тогда еще заместитель, местоблюститель Патриаршего престола, он вот вступал в личный контакт с молодым богословом и имел с ним личную переписку, я думаю, что она была более обширная, чем те три письма, которые, видимо, сам Лосский счел необходимым напечатать, потому что в подготовке этого издания, которое вышло в Москве, в издательстве Московской Патриархии, безусловно, сам Лосский принимал участие.
К. Преображенская
— Действительно очень интересно, ведь Владимир Лосский был молодым человеком, действительно, а сюжет шел о фигурах очень авторитетных, и сама ситуация была очень деликатная. Но вот здесь проявились такие личные качества Владимира Николаевича, как его такая принципиальность, и эта принципиальность была ему присуща на протяжении всей жизни.
А. Козырев
— Причем какие-то критические замечания приходилось слышать от близких и уважаемых людей, когда он подарил свою книгу «Спор о Софии» матери Марии (Кузьминой- Караваевой), она ему вернула со словами «Книг, написанных доносчиками, не читаю». То есть тоже не всё так просто, да?
К. Преображенская
— Это, конечно, удивительно, что десятилетия, века идут, но многие ситуации, они повторяются.
А. Козырев
— Да. Ну вот я помню, когда к нам приезжал Оливье Клема́н в 90-е годы, а это француз, который стал православным не из католиков, а из атеистов, он принял крещение, прочитав, в том числе, и Владимира Лосского, и он вспоминал о том, что в конце жизни Лосский как-то немного сожалел о той резкости, которая была во время спора с Булгаковым, и в чем-то, может быть, принимал какие-то его аргументы, но об этом можно верить только со слов Оливье Клемана, видимо, какие-то письменные источники должны были бы остаться, но я их не знаю.
К. Преображенская
— Да, я тоже не слышала об этом. Есть очень интересные воспоминания детей Владимира Николаевича о нём, очень теплые.
А. Козырев
— А чем стали заниматься его дети, они пошли по его пути?
К. Преображенская
— Я бы сказала, что по его пути пошёл, пожалуй, внук Андрей Николаевич Лосский, то есть сын Николая Владимировича, он богослов, и богослов очень такой вот...
А. Козырев
— То есть внук уже Лосского, да?
К. Преображенская
— Да, внук Лосского, он богослов. А я встречалась с Николаем Лосским, есть сыном, и с Мария Семон, дочерью. Сын, по-моему, в Сан-Серж преподавал, в Свято-Сергиевском богословском институте?
К. Преображенская
— Да, но мне кажется, что он скорее культурологическими какими-то темами занимался, а Мария Семон тоже скорее в области культурологии. Я бы сказала, что вот этот острый опыт «спора о Софии», наверное, отвратил отчасти детей Лосского от этой тематики.
А. Козырев
— По-русски они говорили?
К. Преображенская
— Да, они прекрасно говорят по-русски.
А. Козырев
— Это же тоже проблема для эмиграции, когда люди во втором, в третьем поколении иногда утрачивали язык, то есть полностью офранцузивались, и даже некоторые считали, что и не нужно учить русский язык, чтобы они лучше интегрировались, лучше вписались в западную культуру.
К. Преображенская
— Да, но, безусловно, в семье Лосских не эта главная цель была. Там прекрасно говорили и говорят по-русски потомки Владимира Николаевича, и мне кажется, что у этой части русской эмиграции было внутреннее ощущение, что вот у них есть такая историософская, если можно сказать, задача — светить тому западному миру и доносить истины восточно-христианские традиции для того, чтобы она была открыта. А здесь нужно понимать, что ведь православные очень часто понимают истину своего учения не в том плане, что все остальные ложны, это не враждебное такое отношение, а что это действительно свет, который желательно бы донести до других. Поэтому у Владимира Лосского очень много произведений, написанных именно в адрес как раз католиков и протестантов, для прояснения основ христианской веры.
А. Козырев
— Я не хочу никак задеть христиан других конфессий, но я помню, как в Париже на Сергиевском подворье, когда я там работал в архиве и жил даже какое-то время, зашла компания французов, женщины средних лет, и они, спускаясь по горке, остановились и мне сказали: «Какая у вас светлая религия, какая у вас светлая, радостная религия, не то, что у нас так все мрачно». Тоже, наверное, как-то чужое всегда интереснее, всегда привлекательнее, но здесь я, наверное, с ними согласился, потому что, когда оказываешься в храме преподобного Сергия в Париже, то действительно, вот это ощущение света, какого-то многоцветия, витражей, которые совсем не западные витражи, а вот скорее, как наш сказочный терем, который очень гармонирует с иконостасом работы Дмитрия Стеллецкого, это ощущение праздника, ощущение радости, ощущение дома и уюта.
К. Преображенская
— Да, я тоже хотела сказать, что вот семейное тепло— это то, что действительно присуще нашей традиции.
А. Козырев
— Ну, а вот по-своему вы говорите, что он так и не находил общего языка с русскими эмигрантами, но все-таки он пытался же создать какие-то школы богословские, вот Институт Дионисия такой был, где лекции читались, и Владимир Ильин там читал лекции, да?
К. Преображенский
— Ну, это скорее уже речь идёт о другом, может быть, поколении русской эмиграции, потому что изначально речь шла о том, что то сообщество русских эмигрантов, которое собиралось вокруг Николая Александровича Бердяева, соответственно, там, понятно, было невозможно общение.
А. Козырев
— А если говорить о других ваших научных интересах, вот я знаю, что вы занимались Вышеславцевым немножко, это как-то пересекается тематически с Лосским, или другой здесь какой-то интерес, другой образ веры, другой образ поведения человека в Церкви?
К. Преображенская
— Нет, вы знаете, я занималась Владимиром Соловьёвым, а вот тут как раз пересечение очень получилось интересное, потому что именно у Владимира Соловьёва, как правило, находят исток вот этой самой софиологии, и для меня, конечно, это очень такая специфическая параллель. С одной стороны, очень разные мыслители, а с другой стороны, очень похожие в своей такой живой, сердечной, очень горячей вере. Вот, если честно, вы же тоже большой знаток Владимира Соловьёва, у меня такое убеждение, что за исключением трактата «София», который был опубликован на французском языке при жизни Соловьёва...
А. Козырев
— При жизни он не был опубликован вообще.
К. Преображенская
— Не был, да? То есть даже не был опубликован. Что вот все опубликованные при жизни официальные сочинения Соловьёва, если рассматривать с богословской точки зрения, там, по-моему, всё чётко.
А. Козырев
— Но если под трактатом о Софии вы подразумеваете «Россию и Вселенской Церковь», там есть о Софии, он действительно был опубликован при жизни и на французском языке. Тут, может быть, для Соловьёва очень важная тема — тема любви, смысл любви, её не обойти, если мы говорим о вере. Вот вера и любовь, вы сами сказали, что в жизни Лосского это была важная тема. Была жена, Магдалина Исааковна, по-моему, её звали. Было четверо детей.
К. Преображенская
— И как раз спор о Софии случился, вот это неприятие Владимира Лосского случилось, когда его жена ждала четвёртого ребёнка. Они очень нуждались в средствах, и, конечно, он обращался к Бердяеву, и вот, насколько я знаю, была такая история. По-моему, Николай Онуфриевич как раз об этом рассказывается в своих воспоминаниях, что Бердяев рвал на кусочки письмо Лосского и топтал ногами, настолько кипели страсти, вот была такая очень драматичная история в русской мысли.
А. Козырев
— Там ещё были разные такие вот религиозно-философские семинары на бульваре Монпарна́с, бульвар Монпарнас, 10, я даже помню этот адрес, хотя сейчас этот дом не сохранился, где было издательство «Путь» и Религиозно-Философская академия, и там были действительно случаи, когда до драки доходило в буквальном смысле, потому что люди по-разному понимали, например, свободу в Церкви, то есть вот обсуждали этот вопрос, и кто-то кому-то давал пощёчину, и, кстати, было вот это напряжение между Бердяевым, между, скажем так, вот этим кланом Константинопольской Церкви и Фотиевским братством, куда входили братья Ковалевские, Владимир Лосский. Вот в чём-то, вам не кажется, что это какой-то спор отцов и детей?
К. Преображенская
— Безусловно, очень похоже, очень эмоционально и очень глубоко и, очевидно, с любовью, тем не менее.
А. Козырев
— Ну, с любовью во Христе, скажем так.
К. Преображенская
— Да. Но вот если вернуться к сюжету о любви...
А. Козырев
— Давайте мы сейчас сделаем паузу, и потом вернёмся к сюжету о Христе.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость из Петербурга, доцент Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского Кира Преображенская. Так что же там было с сюжетом о любви?
К. Преображенская
— Мы с вами прекрасно знаем, что христианство понимает любовь, в том числе, как процесс познания. И вот мы сейчас говорим о мыслителях, философах и богословах, и мне кажется, вот это понимание, что любовь есть познание, которое нас отсылает, конечно, к Священному Писанию, но у первых отцов Церкви, это, конечно, Блаженный Августин. И вот в этой работе, которую мы с вами упоминали, о Мейстере Экхарте у Владимира Лосского, там как раз августинианская тема, что любовь к Богу — это путь к познанию Бога, она очень сильна. И здесь мы видим, что почему ещё любовь — это основа познания, потому что познание в христианском богословии — это богообщение, а богообщение возможно только в этом тёплом сердечном стремлении друг к другу двух субъектов. То есть мы видим, что действительно, любовь — это не только эмоция или чувство какое-то сильное, это, я бы сказала, метафизическая реальность. И вот мы вспомнили Владимира Соловьёва, его работу «Смысл любви», он, в принципе, об этом же говорит, что когда любишь человека, ты прозреваешь его истинную метафизическую сущность — что же это, как не познание?
А. Козырев
— Истинное, да?
К. Преображенская
— Да, истинное познание.
А. Козырев
— То есть не то, чем он хочет казаться, а то, что он есть на самом деле.
К. Преображенская
— Иногда он сам себя не знает, а любящий человек видит верно.
А. Козырев
— Правда, надо сказать, что всё-таки у Соловьёва детей не было и семьи не было, отчасти потому, что так сложилось, он делал предложение, но ему отказывали, или его возлюбленная была замужем, Софья Хитрово, но отчасти и по какому-то сознательному убеждению, он считал, что задача философа не в том, чтобы «впадать в детей», и что высокая любовь возможна там, где детей нет никаких, например, Ромео и Джульетта, а где детей много, может быть, и любви большой нет, но в этом плане Соловьёв был достаточно путанный философ, я думаю, что Лосский здесь более последовательно реализовывал.
К. Преображенская
— Да, помните, вот о Владимире Соловьёве есть такой образ — «рыцарь-монах» у Блока, то есть это скиталец, который в поиске, а когда мы говорим о Владимире Лосском, то это, конечно, уже один из сборников, который называется «Богословие и боговидение», вот это как раз об этом.
А. Козырев
— Ну, кстати, на тему преображённого Эроса Вышеславцев писал же, то есть это, скорее, линия Владимира Соловьёва. А вот та любовь, о которой вы говорите, как богообщение, познание бога, у Григория Нисского, кстати, была цитата, которую Флоренский выносит в «Столпе», что «познание рождается любовью». А любовь эротическая — это тоже тема, которую затрагивали философы, но здесь, наверное, вот эту линию Соловьёва больше Вышеславцев продолжает, да?
К. Преображенская
— Я не знаю, будет это уместно или нет, у меня с Вышеславцевым очень яркое воспоминание. Я сдавала экзамен по философии, и мне как раз попался билет о Вышеславцеве, вот «Этика преображённого Эроса». Я не читала, начала рассказывать, экзаменатор кивает, кивает, я продолжаю рассказывать, но, в общем, меня выгнали с экзамена. То есть Вышеславцев — это не моя сильная сторона.
А. Козырев
— Я думал, «пять» поставили и сказали, как хорошо рассказала.
К. Преображенская
— Оказалось, что я всё рассказываю, и всё неправильно, и они кивают. Вышеславцев — это история посрамления вот этих высокоумствующих людей.
А. Козырев
— Ну, может, и правильно, потому что он такой вот германофил был, в «Посеве» сотрудничал. Но Вышеславцев был же тенью Юнга в определённом смысле, то есть он транслировал на русский язык, переводил, по-моему, даже Карла Густава Юнга и был связан с традицией психоанализа, а, скажем так, психоанализ — это не совсем православное направление в мысли, да?
К. Преображенская
— Да, оно как-то явно не в ту сторону, вроде как похоже по фразеологии, но очень о разном, конечно.
А. Козырев
— Юнг, кстати, очень увлекался гностицизмом раннехристианским.
К. Преображенская
— Вот этот исток там гораздо ближе, да.
А. Козырев
— Ну, а что бы вы порекомендовали нашим читателям, если они вдруг услышат нашу передачу и ещё лучше — заинтересуются фигурой Владимира Лосского, с чего начать, какие работы стоит его прочесть, чтобы прирасти к каким-то знаниям о нашей традиции, о православном богословии?
К. Преображенская
— Это всё зависит от задачи, которая перед нами стоит, потому что, если кто-то хочет познакомиться с основами православного учения, то у Владимира Лосского есть такая работа, которая называется «Догматическое богословие», где по пунктам перечисляются все основные тезисы православного богословия, очень чётко, очень понятно, и, соответственно, это может быть какой-то основой для дальнейшего интереса. А вот если говорить о понимании мировоззренческого корня Восточного Христианства, то, конечно, это знаменитая работа «Очерк мистического богословия Восточной Церкви», где показано, что это энергийная линия, которая концентрируется вокруг понятия ипостаси или личности, что это то, что формирует мир православного учения. И что очень важно, вот такое внимание к ипостаси и личности высшего существа делает возможным разговор о личности человека. Я скажу одну вещь, которая, на мой взгляд, очень важная, но мы её пока не затронули. Дело в том, что личность, по Владимиру Лосскому, — это становление, то есть это не нечто целое, не нечто законченное, и, соответственно, личность — это тайна. Вот мы знаем о тайне Божественной Личности, и то же самое можно сказать о человеческой личности — это тоже тайна, потому что это не есть вещь.
А. Козырев
— Ну, как маленький ребёнок маме говорит: «Я — личность», а она ему говорит: «Подожди, ты ещё не личность, ты выучись, ты университет закончи, на работу устройся, вот тогда ты, может быть, станешь личностью». То есть часто под личностью мы понимаем то, что именно психоанализ понимает под эго, под самостью, под эгоизмом, вот это моё, это мои границы, и, кстати, сказать, так слово «личность» и употреблялось в русском языке до определённого времени. Если мы посмотрим записные книжки Достоевского, вот «Я хочу быть со Христом, но не могу — закон личности связывает», вот личность, как что-то, что внутри меня. Но всё-таки благодаря работе русских философов и богословов, таких как Владимир Лосский, личность стала пониматься по-другому.
К. Преображенский
— Да, и ещё есть очень важный момент: у Владимира Лосского есть такая формула, на мой взгляд, очень яркая и точная: «Личность — это несводимость к природе». Вот вы сейчас сказали о самости, эгоизме, и по существу, если терминологией Лосского говорить, «самость» — это средоточие природы человека, то есть индивидуальности его, а личность — это над природой, поэтому это совершенно другие метафизические закономерности, я имею в виду, что личность не зависит от своих природных качеств. Вот когда мама говорит, что «ты выучись» или «стань кем-то», это не совсем про личность, мы же это тоже понимаем. А вот духовный опыт — это да, это вот личное развертывание себя, связанное с волей. Кстати, учение о воле тоже было для Лосского большим сюжетом.
А. Козырев
— То есть можно сказать, что личность — это в каком смысле самопреодоление, это стремление встать над своей природой?
К. Преображенская
— Да-да, безусловно, и в этом смысл аскетизма как духовной практики: ты же не просто ограничиваешь себя, а ты именно становишься над природными потребностями.
А. Козырев
— Как у Маяковского было: «Не домой, не на суп, а к любимой в гости, две морковинки несу за зелёный хвостик». То есть тебе голодно, есть нечего, военный коммунизм, но ты всё-таки морковинки-то сохрани для своей любимой, отдай ей. Вот так же, как хлеб отдавали во время блокады, мать своим детям отдавала, чтобы они выжили, а она умерла, тоже ведь это не природное качество человека.
К. Преображенская
— Абсолютно не природное, да. Вот сила самопожертвования, то, что проявляется в любви, это как раз и есть исток вот этой самой личности.
А. Козырев
— Вот это очень понятно, но ведь надо ещё это умно описать богословским языком, как это сделал Владимир Николаевич Лосский, не каждому дано. Я очень рад, что мы сегодня вспомнили одного из ярчайших богословов Русской Православной Церкви, действительно, поскольку он имеет отношение к Московскому Патриархату, к истории Московского Патриархата, он был тесно связан с Патриархом Сергием (Старгородским), и, наверное, сегодня снова нам нужно вернуться к своим корням, как мы это делали в советские годы, когда это было подпольно... Ну, не совсем подпольно, я не могу сказать, что Лосского там диссиденты издавали, но это надо было идти в библиотеку, где-то раскапывать эти журналы. Сегодня все издано, изданы большие тома, где собраны основные работы Владимира Николаевича Лосского, и нет никакой сложности в том, чтобы открыть его или в этих томах, или в сети интернет, где многие произведения также размещены, опубликованы, и поэтому я благодарен вам, Кира Владиславовна, за то, что вы пришли в студию и принесли к нам свежий ветер с берегов Невы, и я надеюсь, что наши радиослушатели и «Территорию веры» тоже послушают на «Радио России», это только петербургская радиостанция, да?
К. Преображенская
— Да, это только петербургская, поэтому нас другие регионы слушают в интернете.
А. Козырев
— Ну, это можно найти всегда, потому что очень интересно, вообще сам жанр христианского радиовещания, который для нас, для тех, кто работает на Радио ВЕРА, это отчасти и дело жизни, это отчасти и профессия, вот интересно, как это делают другие, находят доступ, поскольку мы работаем не только для людей верующих, церковных, но и для тех, кто ищет Бога, ищет смысл.
К. Преображенская
— Я бы сказала, что мы в Петербурге работаем так же, как и вы в Москве, а именно — говорим о духовной реальности простым человеческим языком, потому что, если мы сегодня говорили о вере, о любви, как о переживании, это переживание в сердце человека очень глубокое, иногда сокрытое и говорить об этом бывает сложно, и говорить простым человеческим языком как раз необходимо для тех, кто ищет веру.
А. Козырев
— Поэтому будем оставаться на волне Светлого радио, Радио ВЕРА, и до новых встреч в эфире, спасибо.
К. Преображенская
— До свидания.
Все выпуски программы Философские ночи
23 декабря. О почитании святого Николая Чудотворца на Руси

19 декабря, в День памяти святителя Николая Чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святителя Николая Мирликийского в московском районе Щукино.
На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о почитании святого Николая Чудотворца на Руси.
Все выпуски программы Актуальная тема
23 декабря. Об оружии против козней

В 6-й главе Послания апостола Павла к эфесянам есть слова: «Облекитесь во всеоружии Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских».
Об оружии против козней — священник Алексий Дудин.
Все выпуски программы Актуальная тема
23 декабря. О том, как не опоздать в Царствие Небесное

В 4-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Господе: «Будем опасаться, чтобы, когда еще остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим».
О том, как не опоздать в Царствие Небесное, — священник Николай Дубинин.
Все выпуски программы Актуальная тема













