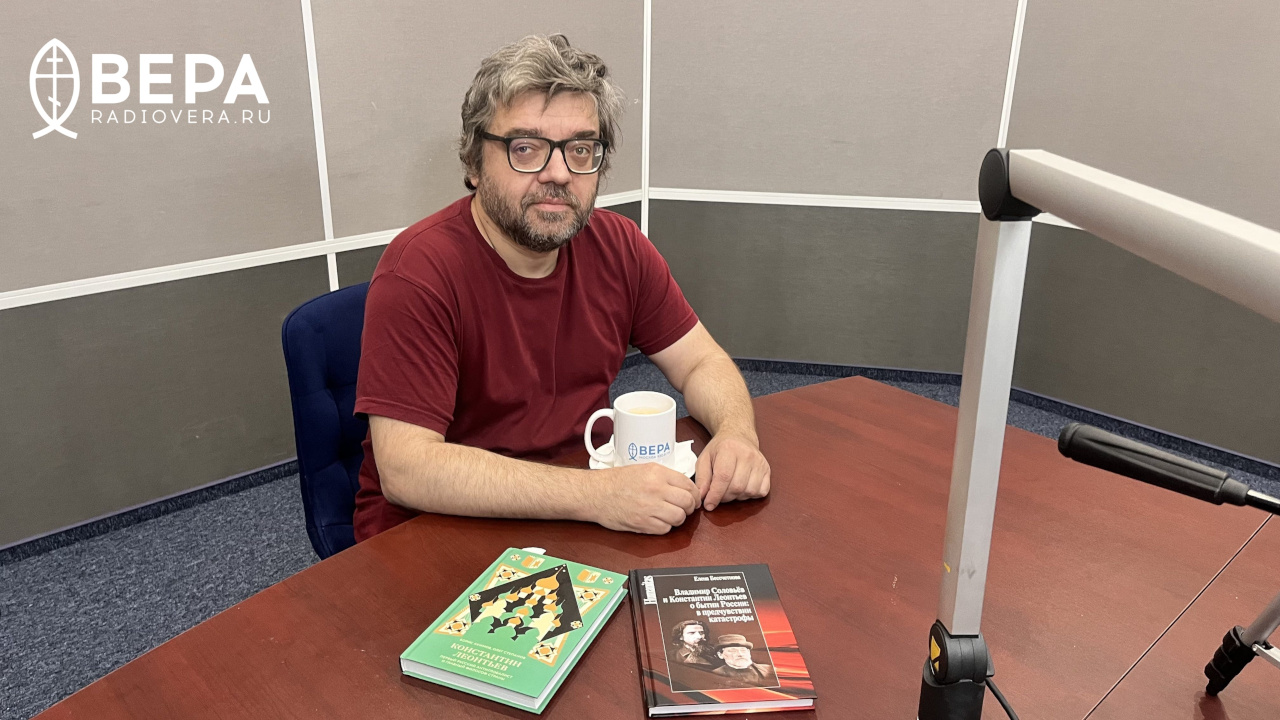
У нас в студии был старший научный сотрудник философского факультета МГУ Юрий Пущаев.
Разговор шел об известном религиозном мыслителе 19го века — Константине Леонтьеве, в частности о его размышлениях о том, что такое «страх Божий» и чем, по его мнению, опасно так называемое «розовое христианство».
Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных русским религиозным философам XIX века.
Первая беседа с заведующим кафедрой философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета Константином Антоновым была посвящена Алексею Хомякову и Ивану Киреевскому;
Вторая беседа с доцентом философского факультета МГУ Борисом Межуевым шла о Федоре Михайловиче Достоевском, как о религиозном мыслителе;
Третья беседа с деканом философского факультета МГУ Алексеем Козыревым была посвящена известному религиозному мыслителю Владимиру Соловьеву.
Ведущий: Константин Мацан
К. Мацан
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА. Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе у нас выходят в «Светлом вечере» в часе с восьми до девяти. И мы говорим о главных именах в истории русской философии XIX века и, в частности, русской религиозной философии. Зачем этих мыслителей читать, что полезного для себя в их текстах можно подчеркнуть и, если угодно, как их читать, на что обращать внимание. И сегодня мы поговорим об удивительном мыслителе — о Константине Николаевиче Леонтьеве. И проводником в мир мысли и жизни Константина Леонтьева станет для нас сегодня Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (сокращённо ИНИОН) и научный редактор православного журнала «Ортодоксия». Добрый вечер.
Ю. Пущаев
— Добрый вечер.
К. Мацан
— Я признаюсь слушателям, что мы с Юрием давно знакомы, ещё по совместной работе в журнале «Фома», лет, наверное, 15 назад.
Ю. Пущаев
— С 2011 года я там появился.
К. Мацан
— Ну вот примерно. А сейчас мы, волею судеб, коллеги снова по философскому факультету МГУ, поэтому мы на «ты» с Юрой и не будем притворяться, что мы друг друга не знаем. Поэтому вот я очень рад, что ты у нас в студии. И про мыслителя, про Леонтьева, которого ты очень любишь, которого ты много читаешь, изучаешь, про которого ты много размышляешь, который для тебя не просто фигура из списка истории русской философии, как мне представляется, а мыслитель, с которым ты сам постоянно во внутреннем диалоге. Вот поэтому я тебе очень благодарен, что ты в студии. А если так, самым общим образом, для начала поставить вопрос: вот почему русский XIX век не представим без Константина Леонтьева?
Ю. Пущаев
— Как говорится: «Вы, надеюсь, кирилловец?», — то есть леонтьевец. «Так точно, да», — ответил из «Двенадцати стульев»... Но если говорить серьёзно, то был такой русский критик Перцов, который называл книжку Леонтьева «Восток, Россия и славянство» учебником смелости. То есть книги Леонтьева такие на самом деле учебники смелости мысли. И для меня, вот именно как ты говоришь, во внутреннем диалоге, или монологе, Леонтьев оказался очень важен. Он позволяет, условно говоря, идти немножко дальше, чем позволяет современная эпоха, в целом, при прочих равных. В чём главный парадокс фигуры Леонтьева? А в том, что он считается таким мракобесом, особенно со стороны своих противников, реакционером, защитником всего консервативного. При этом, наверное, это самый процерковный мыслитель в истории русской философии, который Церковь никогда не позволял себе критиковать, и не было у него, как у Бердяева или ещё кого-то, какой-то критики догматов Церкви. И при этом это самый творческий и самый самостоятельный русский мыслитель, самый свободный. Вот в этом привлекательность фигуры Леонтьева — какая-то такая строгость церковная, которая совмещается с творческой свободой и смелостью. Это такой хороший личный пример.
К. Мацан
— А он всегда был верующим, православным, церковным человеком? Или он к этому пришёл в какой-то момент жизни?
Ю. Пущаев
— Вообще, с юности консерваторов не бывает, как говорится. К консерватизму люди приходят под плодом каких-то жизненных впечатлений, переживаний. И он в 50-е, начале 60-х годов, как и многие другие, был либералом. В принципе, все русские мыслители, известные консерваторы, сначала были либералы, а потом уже переходили на совершенно другие идейные позиции. Даже есть книжка такого хорошего историка русской философии, просто историка, Константина Хатунцева «Молодой Леонтьев», где он показывает очень подробно, что Леонтьев в молодости был либералом на самом деле, а потом изживал, так сказать, и довольно быстро изжил эти общие установки, которые разделяли подавляющее большинство русских грамотных людей того времени. И в этом плане фигура Леонтьева одинокая. Вот должен сказать, в чём ещё один из парадоксов фигуры Леонтьева? В том, что до сих пор это мыслитель для немногих, как ни странно. При его популярности, при том, что начался, условно говоря, леонтьевский бум в 90-е годы. Вот Алексей Павлович Козырев, наш с тобой общий начальник, декан факультета, он говорил, что читаешь про Достоевского студентам — они все заинтересовываются. Начинаешь Леонтьева читать — люди как-то скучнеют часто многие, им не так это интересно. Потому что вот, условно говоря, чтобы войти в мысль Леонтьева, при всей его творческой свободе и смелости, понять парадоксальность его фигуры, нужно быть хоть немного церковным человеком. Что, понятно, сейчас со стороны юношества это нечасто можно встретить.
К. Мацан
— Чего нельзя ожидать от студентов по умолчанию.
Ю. Пущаев
— Ну вот в случае с Достоевским — можно, в случае с Леонтьевым это не так. И Леонтьев при жизни был очень непопулярен, то есть он был малоизвестен среди широко читающей публики, но его очень ценили равновеликие, равнозначные ему фигуры в истории русской мысли: Толстой, Розанов, Бердяев, Трубецкой, Соловьёв и так далее. Вот для них Леонтьев всегда был очень значим. А широкая публика, в силу тогдашних распространённых увлечений либерализмом, социализмом, а Леонтьев был далёк от них. И вот я хочу привести такой пример. Был такой литературный критик, уже в советское время, Пётр Губер, он описывал, как впервые познакомился с Леонтьевым. Он говорит, что вот он сидел, 18 лет ему было, 1905 год, революция только началась, читал что-то скучное для своих студенческих занятий и случайно попал на книжку «Византизм и славянство». Он открыл и говорит, что для него это было, как удар молнии. Такая там была насыщенная, яркая мысль, которая при этом вызвала у него жесточайшее противоречие, неприятие. И он говорит: ну что это такое? Я читаю вещи, которые он пишет, для меня совершенно неприемлемые, в то же время я не мог оторваться от этого удара света, ослепляющего такого, оглушающего. Он говорит: что это такое? Вот цитаты: «Субъективного благоденствия и счастья свобода и равенство не дали никому». Или: «Глупо и стыдно людям, уважающим реализм, верить в такую нереализуемую вещь, как счастье человечества, даже приблизительное». Или, вот что особенно будет раздражать, думаю, и наших современников, следующая цитата: «Истинное христианство учит, что какова бы ни была по личным немощам своим земная иерархия, она есть отражение иерархии небесной». Кстати, у Леонтьева в этом контексте другая фраза его была, что даже исправник полицейский немножко помазанник Божий.
К. Мацан
— Это сильно.
Ю. Пущаев
— Да. Или вот: «Мужик, монах, купец старого духа — вот истинно русские граждане, а не мы». И дальше автор пишет, что потом, только с возрастом, понял, что Леонтьев (он вот тоже это понятие употребляет) это такой учитель смелости, и он такой огранщик, как алмаз, другим камням, придающий неожиданный блеск, грани и глубину, которых у них раньше не было — такой огранщик ума.
К. Мацан
— Но вот всё-таки его приход к вере, в Церковь. Ну или, может быть, если не было у него в жизни какого-то там периода полного атеизма, но вот приход, как бы мы сегодня сказали, к осознанной вере как случился?
Ю. Пущаев
— У него было такое православие, достаточно усвоенное в несознательном возрасте, потому что у него мать была верующей и возила его по монастырям. Он с детства впитал, условно говоря, эстетику, атмосферу, быт даже, монастырей, церковных каких-то вещей. Он вспомнил, как мать молилась, но потом с возрастом, как многие, отошёл. В нём было воспитано, во-первых, такое почитание и уважение к государственным устоям и такая вот церковная эстетика, что потом позволило ему легче прийти к вере. А к вере непосредственно, такой глубокой, искренней, он пришёл, как и другие русские консерваторы, после сильного жизненного потрясения. Вот, скажем, у Достоевского была каторга, у Александра Тихомирова сын сильно заболел, когда он был уже в эмиграции в России — это революционер, бывший народоволец, который стал одним из видных консерваторов-монархистов, тоже верующих людей. У него сын сильно заболел, он стал много ходить по церквям и молиться. А Леонтьев был вообще врач по образованию, но одновременно был дипломатом, публицистом, то есть такой разносторонний человек. Вот когда он был на дипломатической службе в Греции, он очень сильно заболел. У него была лихорадка, он лежал и буквально умирал — как врач он понимал, что сейчас умрёт скоро, буквально в ближайшие часы. И в это время он сильно взмолился Божией Матери и попросил Её, что вот я же ничего ещё в своей жизни не сделал. Если Божия Матерь позволит мне выздороветь, я брошу свою утончённо-развратную жизнь и уйду в монастырь. И через два часа он как врач с изумлением увидел у себя несомненные признаки выздоровления. И после этого Леонтьев уезжает на Афон, пытается первый раз уйти в монастырь. Но там монахи-отцы не одобряют его такой уход по своим каким-то духовным установкам.
К. Мацан
— Мудрое решение монахов-отцов.
Ю. Пущаев
— Он потом ещё раз пытался в Николо-Угрешский монастырь уйти чуть позже. И тоже у него какие-то нестроения были с настоятелем тогдашним, и не получилось. Но в итоге в конце жизни, за два месяца перед смертью он, как известно, постригается всё-таки в монахи под именем монаха Климента. И вот этот максимально свободный в творчестве, в мысли, учитель смелости, человек становится монахом. В истории русской мысли есть ещё один только такой пример — Алексей Фёдорович Лосев, который стал монахом. Но, кстати, у Лосева с православием на самом деле (это обычно замалчивается) непростые отношения, потому что он на самом деле был катакомбник и в церковь никогда не ходил сергианскую. Это так, в скобках. К. Мацан
— Про Алексея Фёдоровича Лосева, я надеюсь, мы ещё поговорим в наших циклах, когда будем говорить о русских философах и мыслителях ХХ века.
Ю. Пущаев
— Я не смог сдержаться.
К. Мацан
— Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН и научный редактор православного журнала «Ортодоксия», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про Константина Леонтьева, русского мыслителя. Вот из того, что ты говоришь, напрашивается вопрос: а как это парадоксально сочетается? Судя по всему, в Леонтьевне, с одной стороны, то, что ты говоришь, свобода и внутренняя свобода мысли, а с другой стороны — какое-то внутреннее требование иерархии. Вот такой пиетет к некому начальству, начальствованию над собой, даже в каком-то, может быть, психоаналитическом смысле. Как ты это видишь, в чём это видно? Допустим, человек, который тексты Леонтьева давно не перечитывал, вот на чём бы ты это показал?
Ю. Пущаев
— Я прошу прощения, это не самореклама, просто реальный пример из жизни. Борис Вадимович Межуев меня упрекает, говорит: «Юра, вы вроде такой творческий, яркий человек. Как вы можете так вот почитать тоже власть, иерархию? Как это у вас совмещается?» Я не знаю, как, но как-то это вот совмещается. И в случае с Леонтьевым, наверное, рискну сказать, что многое заключается в его видении мира, в том, что он видит иерархию, организацию как, на самом деле, творческое начало в мире — то, что позволяет миру существовать. Ведь для Леонтьева, скажем, слово «деспотизм» обладало положительным значением.
К. Мацан
— А вот каким?
Ю. Пущаев
— А он говорил, например: «Что такое идея? Это деспотизм внутренней формы, не дающий материи разбегаться», — то есть это то, что мир оформляет. По-гречески «епископ» — это «деспот», нечто властвующее над миром, что мир держит в осмысленной, разумной форме.
К. Мацан
— Иначе бы мир был бесформенным хаосом, вообще ничего из себя не представляющим бы.
Ю. Пущаев
— Да. И тут можно перейти к тому, за что Леонтьев критиковал современность. Одна из его ведущих идей, что современная эпоха, с её либерализмом, демократизмом, это эпоха такого упрощения и такого всё более и более прогрессирующего однообразия. Потому что свобода, которая даётся индивидам, даётся уже так, что никакая идея их не сдерживает. И вот эта материя начинает разлетаться, разбегаться, и какое-то организующее начало из мира пропадает. И в этом плане без идей, в социуме, в мире, деспотических, которые держат, организуют, нельзя на самом деле. Вот современная эпоха очень увлечена свободой. Но «свобода» — это на самом деле очень туманное, непонятное слово. Бывает свобода личная, свобода ещё какая-то. Почему-то всегда она награждается положительным значением. Но свобода для чего, во имя чего? Свобода кого, чего? Нужно вот такие уточняющие вопросы задавать. Другой видный консерватор Эдмунд Бёрк писал, что прежде, чем кого-то поздравлять со свободой, для начала, например, спрошу: а не свобода ли это умалишённого, который с ножом сбежал из сумасшедшего дома? Тогда я этого человека не стану поздравлять со свободой.
К. Мацан
— Вот мы тоже иногда на Радио ВЕРА обсуждаем, когда человек современный говорит, что для него высшая ценность — это абсолютная свобода. Вроде бы звучит красиво, но если продумать эту мысль до конца, что такое абсолютная свобода — это абсолютное ничто, это полная неоформленность. Это такой, в общем-то, лозунг нигилизма. Потому что как только возникает что-то, оно должно быть как-то, чем-то оформлено, вот некой идеей, которая, собственно, не даёт разбегаться. Как, помнишь, у Честертона: «Смысл картины в её рамке»? Если нет рамки, то нет и картины. Если нет конца у футбольного матча, у него нет смысла. Как в жизни нет смысла, если она бесконечна и никуда и ни для чего не идёт.
Ю. Пущаев
— У Леонтьева было ещё мракобесней. Он, например, говорил что индивидуализм губит индивидуальность. Почему он был поклонник такой деспотической организации, условно говоря, в обществе? Потому что он говорил, что раньше сословное общество образовывало такие яркие типы: если военный, то военный, если монах, то монах, если купец, то купец. Затруднённость перехода между сословиями одновременно выковывала какие-то яркие индивидуальности. Человек вкладывался в дело, себя реализовывал в этом деле и был более ярко выражен. Как Леонтьев говорил: сильная идея всегда ищет выразительные формы. И поэтому получались выразительные формы. А когда вот эти перегородки между разными социальными образованиями исчезают, когда социальная дифференциация становится всё меньше и меньше, происходит это упрощение, люди становятся на самом деле всё более похожи друг на друга. А общеизвестно, что Леонтьев — его ещё называют таким эстетом, потому что он был увлечён эстетикой жизни, — пропадает красота жизни.
К. Мацан
— Эстет — это тоже оформленность. Это вот некие пропорции: вот сюда как бы можно, а сюда неможно, вот это здесь, а это не здесь. Если эти формы исчезают, то и красота исчезает. Красота — это ограничение хаоса в каком-то смысле.
Ю. Пущаев
— Как сказали ещё пифагорийцы, гармония заключена в каких-то закономерностях, тоже формально и деспотично в чём-то. И у Леонтьева есть знаменитая работа «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения». Он в этой работе аргументирует, что эта свобода, которая всё больше и больше захватывает западный мир, которой мы, Россия, хорошо бы, если бы противостояли, она приводит к упрощению, к тому, что люди становятся однообразные и похожи друг на друга. Они довольствуются идеалом такого мещанского благополучия, такого буржуазного, где на самом деле уже нет места каким-то ярким чувствам, событиям, где всё упирается в то, чтобы жить не хуже, чем сосед. А уж какие-то яркие подвиги совершать — это просто ни к чему. Леонтьев говорил: «Неужели всемирная история совершалась ради того... неужели вот Александр Македонский захватывал новые страны, греки воевали с персами ради того, чтобы этот средний буржуа в Париже уселся и пил свой кофе на бульваре?» Кстати, вот ещё о пользе деспотизма. Я сегодня ехал на передачу и подумал, что всё-таки силы пиара, пиар-технологий во всемирной истории начали действовать гораздо раньше нашего времени. Ведь мы воспринимаем всю мировую историю через призму древних греков, потому что они писали книги, в отличие от других цивилизаций, гораздо больше. Мы, вообще, воспитанники такой античной цивилизации. Вот есть такой знаменитый эпизод из истории греко-персидских войн. Греки его подавали так, что какие вот персы слабаки и рабы. Когда, как известно, флот Ксеркса двигался на завоевание Греции, началась сильная буря. И нужно было скидывать балласт с корабля. Балласт скинули, но это не помогало. И персы начали прыгать один за другим, чтобы царя сберечь. Они подходили к царю, кланялись и прыгали. И Леонтьев пишет, что он тоже это раньше воспринимал так, что персы какие-то такие рабоподобные. И вдруг его поразила мысль, что можно на это посмотреть другим взглядом: какое мужество внутреннее требуется, чтобы добровольно своей жизнью пожертвовать ради царя, прыгнув с корабля. И даже не потому, что тебя вынуждают — их не вынуждали. Что вынуждать под угрозой смерти? Они делали это свободно, добровольно прыгали с корабля.
И вот мы переходим, может быть, к другой теме, что организация в обществе ещё учит какому-то личному смирению — то, что сейчас непопулярно. Леонтьев считается родоначальником византизма — это такое как бы идейное построение в истории русской мысли, что культурно-исторический тип, определяющий Россию, это византизм. И вот антропологически византизм предполагает именно согласие, личное и добровольное, на иерархию, на то, чтобы в критичных ситуациях, как, допустим, Иван Сусанин, отдать жизнь за царя. И это то, что на самом деле, мне кажется, действительно впитано русским народом уже давным-давно и продолжалось уже и после крушения царской России. Например, в Великую Отечественную войну, когда людей призывали идти на фронт, человек вздыхал и говорил: «Ну что ж, я пошёл». Это же тоже проявление личного смирения — жертва собой ради целого и иерархии. Понятно, что послушание важно не само по себе, а ради чего оно. И для Леонтьева в то же время оно, конечно, имело очень важную религиозную основу, что это ради личного спасения и так далее. Но в русской истории вот это, что наш народ, допустим, до сих пор голосует за «Единую Россию», слушается начальство — над этим обычно хихикают, а я считаю, что это очень серьёзная и в чём-то положительная вещь. В этом тоже выражается какое-то смирение, без которого никакие значимые общие дела социальные невозможны.
Как мне один, условно говоря, этнопсихолог сказал, что у каждого народа есть какая-то определяющая черта. У кого-то это, например, гордость. Я говорю: «А у русских что?» Он говорит: «А русские в момент опасности тут же все объединяются, выступают как один». Мне кажется, не будем идеализировать. Эта черта в современности всё больше и больше уходит. Но я не могу в этой леонтьевской призме не видеть положительное содержание — вот то, что обычно считается рабством.
К. Мацан
— Вот произнёс ты слова «культурно-исторический тип». Это действительно важная составляющая — такая хрестоматийная тема из учебника по истории философии. Про что Леонтьев? Это вот цивилизационный подход. Про то, что... мы, может быть, это, как правило, связываем с именем, например, Шпенглера — о том, что каждая культура развивается самобытно, как бы не то что по своим законам, а нельзя всё мерить одной европейской меркой. Цивилизации развиваются как каждая уникальная, самобытная — и в этом их ценность. Но задолго до Шпенглера об этом писал Леонтьев, а ещё до него Данилевский, русские мыслители. В этом смысле нужно отдать им как-то дань памяти и уважения. И вот известная мысль Леонтьева о том, что три этапа любой такой культурно-исторический тип проходит: первичная простота, потом цветущая сложность, и это есть красота жизни, а потом — вторичное упростительное смешение. Это парадоксальная вещь, потому что мы действительно привыкли, как правило, думать о прогрессе как о какой-то такой ценности, что вот, безусловно, идёт вперёд к лучшему. А Леонтьев показывает: может быть, это, наоборот, упрощение? — то, о чём ты говоришь. Что хорошего в том, что все, чем дальше, тем больше, будут друг на друга похожи, будут одинаковыми? Цветущая сложность и красота жизни будет от этого уменьшаться, а не увеличиваться. Поэтому вот так важна самобытность. Правильно я понимаю?
Ю. Пущаев
— Отчасти, да. Кстати, по поводу того, что в учебниках написано. Я что-то вспомнил фразу из «Собачьего сердца»: «А не читайте никаких учебников». Не надо учебники читать — как бы зачем? Мы эти учебники с тобой пишем. И вообще, я лично никаких учебников по истории русской философии вообще не читал. Я признаюсь в своём непрофессионализме в этом отношении. Вот не надо учебники читать. Но, конечно, лекции надо читать. Но дело не только в эстетике, не только в красоте жизни. Мне, например, вот на самом деле леонтьевский эстетизм не очень близок. Я не эстет по своему воспитанию, установкам. Но когда Леонтьев говорил о том, что средний европеец — это орудие и дело всемирного разрушения, он, может быть, сам ещё не знал, насколько глубоко он видит, прозревает дальше. Почему? Потому что это вот упрощение сейчас дошло до чего? Согласно прогрессивным идеологиям современным, пола у человека нет, изначально данного. То есть уже уравниваются даже мужчина и женщина.
К. Мацан
— Различия снимаются.
Ю. Пущаев
— Конечно. Это на самом деле продолжение той же тенденции, о которой Леонтьев говорил. А это что? Это просто уже удар по человеку, по его бытийным корням. И тут речь не только об эстетике, конечно, а, условно говоря, об онтологии, о бытии. Вот мне на самом деле нравится выражение «каждый должен знать своё место». Это то, что непопулярно в современном сознании, с его тягой к свободе. На самом деле у каждого есть своё, Богом ему данное, отведённое место. И этим, может быть, было сильно и средневековое общество, средневековая Европа, которую, кстати, Леонтьев очень любил и ценил. Он не принимал современную ему либеральную Европу, но, например, средневековая Европа и даже католичество ему нравились. Католичество, ещё не испорченное Вторым Ватиканским Собором. И в этом плане знать своё место и реализовываться в нём — это правильно. Потому что выход за эти границы ничего положительного, позитивного не даст в итоге. Просто эта материя разлетится, если её деспотизм (в кавычках или без кавычек) внутренней формы не сдерживает идеи, то материя тоже исчезнет, аннигилируется в конце концов.
К. Мацан
— Это, кстати, в каком-то смысле, может быть, и есть смирение. Вот я не раз встречал такую мысль, у отцов её можно найти, что смирение — это знание своего места. Вот тот смиренен... причём вот мы даже об этом на Радио ВЕРА говорили, обсуждая книгу русского богослова ХХ века Павла Евдокимова «Этапы духовной жизни». Он там прям приводит цитату. Сейчас я просто не помню сходу, из какого отца, но она там, в этой книге, есть, что, действительно, вот тот стяжал смирение, кто осознал себя на своём месте и осознал свою меру. Есть такое тоже суждение, я слышал, что в старом русском языке писали «смирение» через «е» — «смерение», от слова «мера». Вот это очень близко к тому, о чём мы сейчас говорим.
Ю. Пущаев
— Может быть, да.
К. Мацан
— Вернёмся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова. Дорогие друзья, не переключайтесь.
К. Мацан
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА продолжается. Мы сегодня говорим о русском мыслителе Константине Леонтьеве. Я употребляю слово «мыслитель», потому что он философом сам себя не называл, но вот был, безусловно, мыслителем. И проводником в мир мысли Константина Леонтьева сегодня выступает для нас Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН Российской академии наук и научный редактор православного журнала «Ортодоксия». Ну вот давай теперь обратимся, собственно, если можно так сказать, к религиозной философии Леонтьева. Опять же, из учебников или каких-то популярных сайтов, которые тоже лучше не читать — по поводу учебников я, может быть, поспорил, а по поводу сайтов бы согласился, — можно легко нагуглить, что называется, информацию о том, что Леонтьев замахнулся на великих, на Достоевского в частности, назвав его христианство «розовым». Вот что не понравилось Леонтьеву в Достоевском? Этот вопрос я задаю, чтобы не только понять отношение Леонтьева к Фёдору Михайловичу, а чтобы ещё высветить, что тогда предлагается как не «розовое», настоящее христианство. В чём христианство Леонтьева?
Ю. Пущаев
— Ну, этот вопрос как бы вызвал очень большую полемику. И она до сих пор идёт, так сказать, но тоже между немногими, кто до этой темы дошёл. Тема это очень сложная, она богословская во многом. Она касается и устройства Церкви, и понимания Бога, человеческой свободы. Но Леонтьев выступил не только против Достоевского, а ещё и против Толстого. Он и Толстого, и Достоевского называл «розовыми христианами». И вот «Фома», когда публиковал моё интервью, в котором мы работали с отцом Георгием Орехановым, про Леонтьева, там, как всегда, хороший заголовок дал: «Одинокий мыслитель против великих писателей» — как вот он смел замахнуться на Достоевского и Толстого. Поговорим о полемике именно против Достоевского, хотя тут очень много общего и с полемикой против Толстого. Что Леонтьеву не нравилось в том, что говорил, писал о чём Достоевский? Прежде всего, эта критика его знаменитой «Пушкинской речи», который все очарованы, говорят, что это выражение русского национального характера. Я вот, ехидничая немножко, в скобках скажу: вот всё жду, когда заговорят о канонизации Достоевского. Учитывая, что книжка вышла несколько лет назад «Евангелие Достоевского», давайте канонизируем Достоевского, потому что такой церковный авторитет важный.
К. Мацан
— «Пушкинская речь» — это где вот про всемирную отзывчивость русского народа.
Ю. Пущаев
— Да, всемирная отзывчивость. Кстати, единомышленник Леонтьева по многим вопросам Тихомиров говорил: а что такое всемирная отзывчивость? Это, на самом деле, заражаться, в том числе, всеми болезнями, которыми болеют люди. У испанца усваивать всё в его характере, у французов, у итальянцев всё подхватывать. Это всё равно, что обойти всю больничную палату, если мы считаем, что человечество больное, и заразится всеми болезнями, на самом деле. Может быть, хорошо бы ограничивать себя? Не только быть всемирно отзывчивым, всемирно открытым таким? Открытость тоже, как вот символ современной, смутно понимаемой свободы, это, на самом деле, такая достаточно двусмысленная вещь. Не всегда нужно быть открытым в каких-то важных вещах. Это, мне кажется, элементарная христианская установка: нужно быть закрытым для страстей, для мира. А вот всемирная отзывчивость — это, мне кажется, что-то непонятное вот в этом христианском контексте.
Но что конкретно говорил Леонтьев про «Пушкинскую речь» Достоевского? Что в ней упор делается на то, что русский человек скажет окончательное слово всемирной гармонии, и тогда воцарится на земле вот такая удивительная эпоха свободы, всемирной гармонии, когда все будут счастливы. Леонтьев, на мой взгляд, совершенно адекватно и справедливо говорил, что в Евангелии всемирная гармония не обещана в конце мировой истории. Наоборот, будут потрясения, будут землетрясения, будут беды громадные, скорби. «Но мужайтесь, ибо Я победил мир», — сказано в Евангелии. То есть царство всемирной гармонии, во-первых, в истории не обещано. Во-вторых, что Леонтьеву не нравилось в таких идеологических построениях Достоевского — это упор на слове «любовь». Он говорил, что вот такое понимание Евангелия, христианства выборочное. Оно берёт всё то, что приятно для современного человека — вот там любовь, гуманные чувства, — и оставляет за пределами внимания то, что современному человеку неприятно, не хочется ему слушать. Скажем, понятия страха Божьего, угрозы загробных мук. Рай берём, а ад — нет. Ну, кто хочет в аду быть?
И Леонтьев говорил, что нужно помнить, что в Священном Писании сказано, что начало премудрости — страх Божий. И что страх Божий — это некая точка отправления, а итогом уже, венцом будет любовь. И кстати, вспоминаю, что у Александры Исаевича Солженицына в каком-то романе сказано про женщину, которая ушла из семьи. «Но ничего, простится тебе многое, ибо ты возлюбила много», — сказано ей словами Евангелия. Но это же не евангельское понимание, развод ради любви — это некое надругательство, если так трактовать брак, смысл брака как установления. И Леонтьев, опять-таки, но, наверное, это продолжение его мысли, что должно быть сначала или параллельно, как очень важная составляющая, некое организующее, дисциплинирующее деспотическое в чём-то начало, которое будет сдерживать твои, может быть, благие, как тебе кажется, порывы, но которые с высокой долей вероятности могут привести потом в известное место.
И эта вот мысль Леонтьева вызвала сначала очень большое отторжение. Очень многие люди заступились и до сих пор заступаются за Достоевского. Но я думаю, что всё-таки здесь был прав Леонтьев, что у Достоевского это было наследие его первоначального сильного увлечения социализмом, с его верой в такое земное благополучие, в мировую гармонию, которая в итоге должна наступить, что Достоевский так это до конца жизни не изжил. Недаром он в своём «Дневнике писателя» пишет специальную хвалебную статью про Жорж Санд, писателя-социалиста, про Викторо Гюго. Это уже зрелый Достоевский, и в то же время так восторженно пишет об этих писателей, что это великие ученики гуманности. А что Леонтьев говорил про гуманизм? Что гуманность есть идея простая, а христианство — это явление сложное, в котором не только гуманность есть.
К. Мацан
— Сегодня четверг, а во вторник на волнах Радио ВЕРА у нас как раз была беседа про Достоевского с нашим коллегой Борисом Вадимовичем Межуевым. И он, в общем-то, подробнее, чем мы сейчас, поскольку было время, сказал именно об этом — о том, что Достоевский, по мнению литературоведа и критика Комаровича, немножко мифологизировал свою жизнь, сказав о том, что на каторге у него был какой-то коренной перелом в сознании. Но вот Комарович, и Борис Вадимович Межуев это нам тоже показал в разговоре, в этом смысле, как ушёл на каторгу христианским социалистом, так и вернулся с неё христианским социалистом.
Ю. Пущаев
— Он много изжил, на мой взгляд, реально много изжил. В нём реальный духовный переворот произошёл, но вот эти остатки христианского социализма довольно заметны всё-таки. То есть переворот был, но в этом плане Достоевский остался в чём-то верен первоначальным идеалам своей юности, условно говоря.
К. Мацан
— А Толстой? Что про Толстого?
Ю. Пущаев
— Ну, Толстой это... По поводу Достоевского ещё спорят, прав или неправ был Леонтьев, упрекая его в розовом христианстве, придираются к Леонтьеву, иногда, мне кажется, чрезмерно в этой полемике. Но с Толстым, мне кажется, вообще никаких вопросов нет. Потому что когда Леонтьев выпустил работу свою «Наши новые христиане» в 1882 году, когда она впервые вышла, Толстой ещё не написал свой религиозный трактат, он ещё не начал свою такую идеологическую, богословскую войну против Церкви, против государства. Ещё анархизм такой, сухой рационализм, морализм Толстого ещё не проявился, а Леонтьев пророчески угадал, чем творчество Толстого опасно. Он говорил, что Толстой понимает религию только как мораль, как нечто такое вот утилитарное, он абсолютно лишён какого-то чувства мистики, догматики как чего-то первостепенно важного для религии. Кстати, одна из таких устойчивых мыслей Леонтьева, что в религии всё-таки первична догматика и мистика, а мораль — это некое следствие, это те дела, без которых вера мертва. Но всё-таки первична вера в этом отношении. И мне кажется, что Леонтьев в этом прав.
Почему? Потому что любая мораль, любая этика, любые ценности должны опираться на онтологию, на то, что касается каких-то первичных бытийных вещей, и это некий вывод из них. Вот, кстати, я хочу сказать, что толстовцем, например, был Михаил Сергеевич Горбачёв — розовый христианин. Почему? Потому что, если вспомнить, у Горбачёва в Перестройку главный его тезис был, что давайте следовать общечеловеческим ценностям, что мораль едина для всего человечества, общечеловеческие ценности едины для всех — давайте объединимся. Тем самым это было забвение и неких марксистских, конечно, установок, с которыми мы не согласны, но в этом была какая-то структурная духовная неправда. Потому что общечеловеческие ценности (я сейчас рискованную вещь скажу) — это то, на чём, может быть, будет играть антихрист. Потому что это прекрасная почва для объединения человечества в некое единое целое. Мораль-то для всех одна — вот давайте объединимся. Давайте идейные различия отбросим — то, что уходит в корень вещей бытийно, в чём мы, потому что у нас разные мировоззрения, можем различаться — и объединимся вокруг морали, бесспорных общечеловеческих ценностей. Это такое прекрасное средство объединения людей.
К. Мацан
— О чём-то похожем мы говорили вчера на волнах Радио ВЕРА, когда с Алексеем Павловичем Козыревым говорили о Соловьёве и о «Трёх разговорах», с включением «Повести об антихристе», где как раз вот антихрист в этом полухудожественном тексте Соловьёва предстаёт человеком, который всех решил помирить между собой, под одним началом объединить, каждому дать то, что он хочет. И таким образом установить ту самую мировую гармонию, которую так, казалось бы, мы все чаем.
Ю. Пущаев
— Я, разумеется, не хочу сказать, что Горбачёв был антихристом — это слишком много на него возлагать. Но то, что он был толстовец во многом — это так. Недаром его идейный советник Иван Тимофеевич Фролов, видный советский философ, который потом стал даже секретарём ЦК КПСС перед распадом СССР, очень Толстым увлекался, даже писал работы, статьи о морали Толстого. И общечеловеческих ценностей теорию Горбачёв сформулировал во многом с помощью Фролова именно, который был толстовцем.
К. Мацан
— Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН, научный редактор православного журнала «Ортодоксия», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про Константина Леонтьева. Я бы вот ещё с какой стороны предложил нам сегодня посмотреть на эту фигуру.
Ю. Пущаев
— Извини, пожалуйста. Я вот просто важную вещь не сказал по поводу Достоевского. Вот почему ещё Леонтьев не принимал Достоевского? Почему он называл его христианство «розовым»? Кстати, откуда термин «розовый» — скорее всего, это имеется в виду французский напиток, такая сладкая лимонадная вода. Что вот есть христианство настоящее, неподдельное — это такая горькая вода жизни, которую пьёт человек, которая ему горька может казаться, но даёт ему жизнь. А есть такой приятненький лимонад, который на самом деле способствует канцерогенам и ожирению дальнейшему, и преждевременной гибели организма. Что не нравилось ещё в Достоевском Леонтьеву? Он считал, что он придаёт какой-то оттенок такой вот сусальности, условно говоря, и ненастоящести христианства. Вот, например, в своём первом письме Розанову за полгода до своей смерти Леонтьев пишет: «Усердно молю Бога, чтобы вы поскорее переросли Достоевского с его гармониями, которых никогда не будет, да и не нужно. Его монашество сочинённое, и учинение от Зосимы — ложное. И стиль бесед его фальшивый». Леонтьев это пишет, когда уже сам четыре года живёт непосредственно в Оптиной пустыни и является учеником, духовным сыном видных Оптинских старцев. И он советуется по поводу своих сочинений с ними постоянно.
И он в другом письме Розанову писал, что Оптинские монахи даже хихикают иногда. Обращаясь друг к другу, они говорят: «Уж не вы ли отец Зосима?» — «Нет-нет, не я», — отвечает монах, испуганно всплёскивая руками. И он говорит, что Оптинские монахи именно считают отца Зосиму в «Братьях Карамазовых» ненастоящей фигурой, такой литературной, скорее. И вот очень важно, что «Легенда о Великом инквизиторе» очень не нравилась Леонтьеву у Достоевского. Он говорил, что не исключено, что Великий инквизитор потом ещё покажет язык Фёдору Михайловичу, которого на самом деле Леонтьев очень любил. Он сам был писателем, и очень таким хорошим писателем. Он любил Достоевского, и Толстого любил как писателя, преклонялся даже перед Толстым, но критиковал вот именно за мысли их. То есть сложное у него было отношение к этим фигурам. Ну вот он говорил по поводу Великого инквизитора: ну что это такое, что признак Великого инквизитора — это то, что вот он возносит на знамя «Чудо. Тайна. Авторитет»? Да никакая религия невозможна без чуда, без тайны и без авторитета. К вопросу организации если вернуться, с чего начался наш разговор, что без авторитета никакая религия невозможна. Он говорит, что любая религия подразумевает и чудо, и тайну, и авторитет.
К. Мацан
— Я позволю себе ещё дальше проблематизировать то, о чём мы говорим. Сергей Иосифович Фудель, наша с тобой любимая тема разговора на кафедре, в том числе, в университете. Парадоксальным образом человек, который, в общем-то, скажем так, не чужд Леонтьеву, хотя бы потому, что папа Сергея Иосифовича отец Иосиф Фудель, священник, был душеприказчиком Леонтьева, был публикатором, издателем его собрания сочинений. Но парадоксальным образом при этом в своих работах Сергей Фудель, который чрезвычайно позитивно говорит обо всех, о ком пишет, даже о тех, с кем, может быть, внутренне не совсем согласен, он в них находит лучшее, кто угодно: Флоренский, Булгаков, Дурылин — вот все для Фуделя каким-то образом свои. Но почему-то только для Леонтьев он как будто не находит тёплых слов. И ярче всего, как мне кажется, это видно как раз-таки в работе Фуделя «Наследство Достоевского», где леонтьевское православие названо «чёрным» и отождествлено с образом Ферапонта — такого законника, такого православного, который за дисциплину и правила (это я Фуделя пересказываю), а не за опытное богопознание, как у Зосимы. Вот такая дихотомия веры как какого-то стояния и горения перед Богом, или веры как вот правил, которые нужно исполнить, ради того, чтобы исполнить. И что-то мне подсказывает, что ты с таким взглядом на Леонтьева не согласишься. Как тебе кажется, на чём Фудель основывает свои наблюдения? И, может быть, в чём тогда он в этом смысле не до конца точен? Ю. Пущаев
— Я очень люблю на самом деле Сергея Иосифовича Фуделя, и его работы, и его богословие. Но мне кажется, тут есть вполне определённая причина, почему вот он к Леонтьву так относился. Я рискну высказать гипотезу, может быть, она покажется смелой, необоснованной. Но вот мне так сейчас кажется, что на самом деле у Сергея Иосифовича Фуделя, чья жизнь выпала на эпоху гигантских церковных гонений и разгрома организационного, почти разгрома, Русской Церкви до 1943 года, была определённая иллюзия того, что можно вернуться в первохристианство, жить почти без церковной организации, иерархии, без вот этих таких деспотических, в нейтральном смысле, начал организующих, и всё равно Церковь продолжит существовать. То есть она была исторически вынуждена, мне кажется, у него эта иллюзия, что вот мы пойдём, условно говоря, другим путём. И у него была, конечно, глубокая, гигантская вера. И я его не сужу и не осуждаю, но я с ним не согласен. Кстати, Леонтьев защищал Ферапонта, говорил: а чего Достоевский так изобразил в Ферапонте, так карикатуризировал такое вот направление в монашестве, чёрное? Кстати, Леонтьев брал под защиту Ферапонта. И мне кажется, что у Сергея Иосифовича Фуделя, который сын главного идейного, условно говоря, наследника Константина Николаевича протоиерея Иосифа Фуделя, который составил его собрание сочинений, был главным хранителем текстов. Он и с отцом своим был несогласен. Мне кажется, по этой причине, что вот ему виделось, что Церковь будет дальше существовать так, что иные варианты все заперты, условно говоря, сотрудничества с государством. Мне кажется, что в истории это не сработало, это не получилось, и что Церковь для своего существования не может не вернуться на такое вот начало, условно говоря, константиновой эры сотрудничества с государством, в той или иной степени симфонии. И поддержка государства важна для существования Церкви, что в итоге в русской истории и произошло в ХХ веке, к концу его.
К. Мацан
— Но это то, что касается такого институционального, если угодно, аспекта.
Ю. Пущаев
— Вот мне кажется, что Церковь без институционального аспекта невозможна.
К. Мацан
— Да, я это не подвергаю сомнению. Я, скорее, про рецепцию Фуделем Леонтьева. Фудель в Леонтьевне увидел такое вот законничество, если угодно, Ферапонта, такое дисциплинарное христианство. Как будто бы, если совсем это огрублять, то главное — ходить на службы, чтобы всё было заведено по правилам и не нарушать Устава. А там что у тебя в сердце происходит, грубо говоря, вот это вопрос уже второй. Вот мой вопрос вот в чём: это есть у Леонтьева, есть у Леонтьева основания, чтобы так проинтерпретировать его вот нерозовое христианство? Ведь нет дыма без огня. С другой стороны, может быть, это какое-то одностороннее понимание христианства Леонтьева?
Ю. Пущаев
— Лично для меня это сложный вопрос. Я думаю, что Леонтьева можно и так прочитать, на самом деле. Но, опять-таки, я для этого вижу какую причину? Что Леонтьев находился в ситуации очень жёсткой полемики общественной, вот и с либералами, и с социалистами, и по поводу Церкви. И, может быть, он делал, действительно, чрезмерный упор на таких деспотических началах, недостаточно уделял внимания какому-то такому внутреннему религиозному аспекту. Это, может быть, объяснялось вот этой ситуацией полемики, когда вдруг все стали такие вот ужасно моральными, моралистами, а Леонтьев обращал внимание на другую сторону, без которой эта мораль не может существовать. Может быть, он в этом перегнул палку немножко. Но мне кажется, что Леонтьева можно почитать и иначе, не так, как Фудель, и увидеть другое. Вот внутреннее содержание, чтобы оно сохранилось в истории, всё равно должны быть какие-то внешние рамки картины для этого. И вот институциональный аспект — это те рамки картины, где вот это вот внутреннее содержание держится. Потому что человеческое сердце не обладает из самого себя какими-то бесконечными ресурсами. Это тоже такой вот ресурс затрачиваемый и истончающийся, если нет подпитки свыше. А вот подпитку свыше позволяет организовать вот эта рамка картины. Но мне кажется, что критика Фуделя Леонтьева очень интересна, полезна, но, в силу этой исторической иллюзии, которая у него была, что возможно первохристианство как долгое и устойчивое явление — он немножко это упускал из виду.
К. Мацан
— А вот расскажи поподробнее про опыт Леонтьева всё-таки уже как человека, живущего в монастыре. Он в это время что-то писал? Что мы знаем об этом, об этой части его жизни?
Ю. Пущаев
— Он очень много писал, начиная с начала 70-х годов. Но когда он в монастыре поселился, в 1887 году выходят его другие важные работы. Вот «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» он начал писать в начале 60-х годов, просто не успел закончить и дописывал, находясь в монастыре. Выходит его такая работа, важная очень, по поводу которой, кстати, он разговаривал и с Амвросием Оптинским. Вообще, он был духовным сыном Амвросия Оптинского и очень его любил и ценил. Выходит его такая работа «Национальная политика как орудие всемирной революции», где он тоже высказывает такие очень проницательные идеи насчёт современной эпохи. То есть он, находясь и в монастыре, продолжал вот заниматься такой, условно говоря, интеллектуальной работой очень интенсивно. И по поводу этого он постоянно находился в духовном совете с оптинскими монахами, со своим духовным отцом Амвросием Оптинским, который, кстати, его и подстригал в монашество. И так получилось, что Амвросий Оптинский умер буквально сразу же после того, как подстриг Леонтьева. А Леонтьев умирает через два месяца после Амвросия Оптинского. То есть они одновременно почти ушли — тоже такое совпадение. То есть он, в принципе, жил довольно интенсивной церковной жизнью, где-то вот начиная с начала 70-х годов, когда вот он действительно обратился, обращение его произошло, о котором мы говорили в первой части передачи.
К. Мацан
— А вот ты сказал, что при жизни он был непрочитанный мыслитель, но к которому потом, уже после его кончины, в дальнейшем в истории русской философии многие обращались. А вот кто, скажем так, для тебя такой самый ценный из его последователей, из тех, кто вот потом как-то о нём размышлял, писал?
Ю. Пущаев
— Последователи Леонтьева? Я сейчас навскидку даже вот не могу сказать. К сожалению, к моему сожалению, последователей Соловьёва, его линии, гораздо больше, которые вот за всеобщий синтез, за примирение там науки и религии, там римского права и канонического права, республики и монархии — такой вот глобальный софийный синтез устроить. Леонтьевская линия, к сожалению, не была подхвачена, в силу очевидных причин истории нашей страны. Кстати, если Достоевского всё-таки издавали очень много в советское время, ну, при Сталине заметно меньше, но всё-таки издавали, то Леонтьева практически перестали издавать, начиная с 20-х годов. И он вернулся к читателю, начиная только с самого начала 90-х годов, с конца 80-х, может быть. То есть Леонтьев был забыт при советской власти, отброшен так вот. Но потом произошёл бум леонтьевский. Почему он произошёл? Вообще, было два бума леонтьевских.
Первый был в предреволюционный период, условно говоря, перед 1917 годом, потому что многие увидели, что Леонтьев очень многое угадал. На мой взгляд, пользуясь таким бюрократическим выражением «прогностическая эффективность», по прогностической эффективности равных Леонтьеву нет. Он предсказал слишком много вещей. Люди, наученные горьким опытом, обращались к Леонтьеву и видели, что, да, наверное, он был в чём-то очень сильно прав, раз многое сбывается по Леонтьеву. Кстати, есть такой устойчивый оборот «всё сбылось по Достоевскому», и Сергей Хоружий написал на эту тему статью. Не всё сбылось, далеко не так, не всё сбылось по Достоевскому, но, скорее, гораздо больше сбылось по Леонтьеву. Но это, правда, может быть, касается личной оптики того или иного исследователя. Безусловно, по Леонтьеву сбылось то, по поводу чего он, опять-таки, с Достоевским спорил. Он говорил, что вот Достоевский — это великий пламенный народолюбец. Достоевский говорит, что вот в народе заложены семена настоящие, вот и зёрна христианства, и к народу обратится интеллигенция, и народ научит интеллигенцию, обратит на истинный путь.
А Леонтьев говорил проницательно, что, нет, на самом деле всегда неграмотные идут за грамотными. Какое будет у вас грамотное сословие, рано или поздно вся остальная масса повернётся за ним. И в этом контексте Леонтьев говорил: смотрите, чтобы этот наш якобы народ-богоносец, по словам пламенного народолюбца Достоевского, лет через 20 не стал народом-богоборцем, да ещё похлеще любых других. Потому что, как известно, русский народ впадает в крайности гораздо больше, чем другие народы. Это Леонтьев написал в 1891 году, а через 26 лет случилась Октябрьская революция, то есть ещё и со сроком угадал. И вот эта прогностическая эффективность, что очень многое сбылось по Леонтьеву, она и подтолкнула в значительной степени людей и к предреволюционному, перед 1917 годом, такому слабенькому леонтьевскому буму, и к гораздо большему такому обращению к Леонтьеву в постсоветское время.
К. Мацан
— Ну что ж, спасибо огромное. Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, научный редактор православного журнала «Ортодоксия», был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили про русского мыслителя Константина Леонтьева. Спасибо огромное за этот разговор. Завтра мы продолжим наш цикл программ про русских религиозных философов XIX века и поговорим про Сергея и Евгения Трубецких. А за сегодняшний разговор я тебя ещё раз благодарю, спасибо.
Ю. Пущаев
— Что-то очень быстро пролетело время.
К. Мацан
— Ну, потому что интересно. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Все выпуски программы Светлый вечер
15 февраля. «Смирение»

Фото: Andrik Langfield/Unsplash
Если при всех наших усилиях, та или иная страсть (например, чревоугодие или гнев) продолжает бороть нас, употребим против неё самое действенное оружие — смирение. Молитвенно скажем с верой Господу: «Благо мне, яко смирил мя еси, Господи!» Подобное устроение души называется благодушествованием и свидетельствует о смирении, которое начинает укореняться в человеке, чуждом уныния. Если не ослабеем в подвиге, тот вскоре принесёт нам свои спасительные плоды.
Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров
Все выпуски программы Духовные этюды
15 февраля. Об истории Софийского собора в Новгороде

Сегодня 15 февраля. В этот день в 1045 году началось строительство Софийского собора в Новгороде.
Об истории собора — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
Софийские соборы возникают и в Киеве, и в Великом Новгороде. В самом начале крещения нашей большой страны примерно одновременно возникают эти два замечательнейших Софийских собора. И Софийский собор в Новгороде построен в 1045-1050 годах, то есть буквально за пять лет, в середине XI века, по заказу новгородского князя Владимира, сына Ярослава Мудрова. И первоначально храм строили византийские мастера, и к работе уже позднее подключились местные умельцы, поскольку климат Новгородчины, конечно же, диктовал определенные свои условия, которые были неизвестны византийцам до такой степени. И, конечно, они пользовались помощью местных мастеров в том, чтобы адаптировать архитектурные и строительные решения к условиям местного климата и местной почвы, и вообще к тем условиям, в которых собор этот будет существовать. Этот собор стал первым каменным храмом Северной Руси, он сменил деревянную 13-главую церковь, которая существовала до этого. Он служил в XI-XII веках княжеской усыпальницей, а затем местом захоронения новгородских владык. На протяжении веков, конечно, несколько раз он разрушался, подвергался пожарам, перестройкам. Очень сильно пострадал, кстати, в XX веке, во время Великой Отечественной войны, когда оккупанты беспощадно совершенно грабили собор и разрушали его внутреннее убранство. И возвращен он церковью был только в 1991 году. Это символ нашей глубокой веры, это исторический памятник связи нашей культуры с византийской великой культурой своего времени. Это домонгольский, как принято говорить у историков, образец архитектуры церковной. Это та особая нить, которая связывает через глубины истории нашу современную православную церковь с матерью церковью в самых древних времен, со времен Крещения Руси.
Все выпуски программы Актуальная тема
15 февраля. О подвиге наших соотечественников за рубежом

Сегодня 15 февраля. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
О подвиге наших соотечественников за рубежом — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.
У каждого от Бога в жизни своё предназначение. Есть люди, которые предназначены послужить Богу в защите нашего Отечества, находясь за рубежом. Служение таких людей бывает разным. И на самом деле очень часто судят о нас по тем людям, которые живут за рубежом и являют собой лицо нашего Отечества. Или хорошо, или плохо. Поэтому те люди, которые трудятся там, которые раскрывают свои таланты и свои способности, они таким образом, защищая наше Отечество, защищают его от пагубного неправильного мнения и пагубного неправильного какого-то слова, которое обращено против нас, которое часто вызывает и войны, и бедствия, и страшные последствия. Поэтому иногда такой один человек может защитить наше Отечество, показывая пример доброго, порядочного человека. И по нему будет судить о всех нас. И дай Бог здоровья тем людям, которые стараются этот долг выполнять достойно. Служения нашему Отечеству за рубежом бывают разным, даже военным. И люди погибают там. И, конечно же, мы должны помнить о них и молиться за них. Пусть Господь упокоит их душу.
Все выпуски программы Актуальная тема













