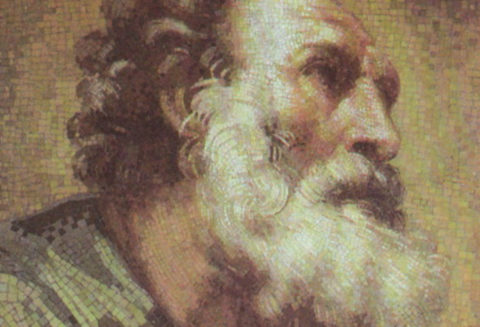В программе «Пайдейя» на Радио ВЕРА совместно с проектом «Клевер Лаборатория» мы говорим о том, как образование и саморазвитие может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе.
Гостьей программы была доктор педагогических наук Татьяна Склярова.
Мы говорили о том, на что стоит обращать внимание родителям, чтобы их дети росли счастливыми и при этом разносторонне развитыми и образованными, какие распространенные ошибки допускаются многими родителями, как их избежать, почему интересы детей зачастую отличаются от интересов родителей и как идти детям навстречу, но не переходить грань вседозволенности.
Ведущие: Константин Мацан, Кира Лаврентьева
Кира Лаврентьева
— Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире программа «Пайдейя», этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить, и напомню, что беседы мы организуем с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С трепетной радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью, в гостях у Светлого радио Татьяна Владимировна Склярова — доктор педагогических наук, профессор. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Татьяна Склярова
— Здравствуйте.
Кира Лаврентьева
— Очень рады видеть вас в нашей студии, у микрофонов мой коллега Константин Мацан. Привет, Костя.
Константин Мацан
— Добрый вечер всем.
Кира Лаврентьева
— Я, Кира Лаврентьева.
Константин Мацан
— Знаете, когда очень давно мы задумывали программу о воспитании, образовании, семье на Радио ВЕРА, желая сделать программу, в которой бы все эти темы концентрированно присутствовали постоянно, мы обсуждали, каким могло бы быть её название. И мне очень нравилось название, которое в итоге у нас не прижилось. Я бы назвал её «Работа над ошибками», потому что все родители совершают ошибки, и, наверное, самая главная боль родительской — это как их не совершать и какие они основные бывают. Вот вы киваете, а вот с места в карьер вы могли бы назвать, с вашей точки зрения, основные ошибки, которые совершают родители в воспитания, ну, не частные конкретные, а вот как принцип. Ну не знаю, там, одну, две, три, вот как бы вы это суммировали, исходя из вашего опыта? Как бы вы их назвали?
Татьяна Склярова
— Наверное, сейчас я бы сказала об одной самой главной ошибке, которая запускает...
Константин Мацан
— ... все остальные.
Татьяна Склярова
— ... все остальные. И эта ошибка в наше время звучит так: я буду воспитывать так, как воспитывали меня, неплохой человек получился!
Константин Мацан
— Так!
Кира Лаврентьева
— Так! И это интересно.
Константин Мацан
— А если и вправду неплохой?
Татьяна Склярова
— Я согласна с тем, что человек получился неплохой, и он формировался в те времена, в тех условиях, в которых ему надо было формироваться, тогда как его ребенок родился и развивается...
Кира Лаврентьева
— Совсем в других условиях.
Татьяна Склярова
— Абсолютно в других условиях, но мы-то неплохие получились, и очень хочется, чтобы наши-то дети стали ещё лучше.
Кира Лаврентьева
— Ну, а вот это известная фраза: меня били — и ничего вон я какой хороший человек.
Татьяна Склярова
— Именно, да, и много такого. Я говорю, вот эта ошибка запускает все остальные, то есть мы можем пойти дальше, но я бы не хотела работать над ошибками, вот честно вам говорю.
Константин Мацан
— Хорошо, что это название не прижилось у нас, но я всё-таки тогда по-другому спрошу. Действительно, понятная мысль: меня воспитывали так, ничего, получилось нормально. И вот Кира неслучайно сразу в качестве примера указывает на какие-то, ну, такие отрицательные практики, там не знаю: меня били, ставили в угол, на горох и ничего, я так тоже буду делать. Сегодня мы же с той же самой логикой, в общем-то, иногда и с другой стороны сталкиваемся, но, если угодно, с какой-то более позитивной. Вот человек начитался книжек по популярной психологии, погребён под обилием информации, с которой он не может справиться, понимает, что он плохой родитель, что он всё делает не так, вот и в какой-то момент ему это надоедает, он приходит к мысли: ну в конце концов, вот у моей мамы не было книжек по психологии, но ничего, как-то она меня воспитала, может, и мне так не надо сильно заморачиваться с этим? Что вы об этом думаете? Вот о такой проекции.
Татьяна Склярова
— Ещё раз, если я правильно поняла, речь идёт о человеке, который в моменте воспитывает ребёнка и читает книги популярной психологии. Так это, да?
Константин Мацан
— Да.
Татьяна Склярова
— Вот мы об этом персонаже говорим?
Кира Лаврентьева
— Пытаясь быть хорошим родителем.
Татьяна Склярова
— ... пытаясь быть хорошим родителем.
Константин Мацан
— Я понимаю, что у него ничего не получается, потому что вот читаешь книги, как здорово, как надо, но вот я не такой, и тогда возникает на новом витке эта фраза, что всё, не буду читать, буду воспитывать, как получается.
Татьяна Склярова
— Ну давайте, вот начнём с конца, то есть для детей, которые растут вот у нашего субъекта, да, вот это отношение, что " А, буду воспитывать, как получается«, мне кажется, более экологично.
Константин Мацан
— Так, это уже хорошее, завлекающее начало.
Кира Лаврентьева
— Себя тоже надо иногда устранить от ребёнка... свой пыл.
Татьяна Склярова
— Вот, это вот первая моя такая реакция, да, и следующая реакция...
Константин Мацан
— Спасибо вам за эти слова.
Татьяна Склярова
— ... следующая реакция по поводу книг популярной психологии. Ну вот, как говорится, искусство обширно, а жизнь коротка, и популярная психология, это ведь на самом деле даже не море, не океан, это какие-то метагалактики, то есть там есть всё. А время, когда ребёнок родился и становится, что называется, на свои ноги и заявляет нам «Я», оно прямо вот фиксировано, и с точки зрения вечности это очень маленький промежуток.
Кира Лаврентьева
— Да.
Татьяна Склярова
— И по-хорошему бы успеть насладиться этим временем, порадоваться, заметить его, ну и не сильно мешать.
Кира Лаврентьева
— Татьяна Владимировна, мы уже с вами немножко перед программой успели поговорить, но я расскажу теперь Косте и нашим слушателям. У нас в программу «Пайдейя» разные гости приходят, они все совершенно прекрасные, потрясающие, интересные, но, конечно же, бывают гости, особенно удивительные для меня, ну, мне кажется, для меня это непостижимо, которые говорят, что они вообще, в принципе, не дают до старших классов телефон ребенку. Это правильно! Дети у них исключительно только читают, они ходят по музеям, по консерваториям, по театрам, они развитые, они умные, они с повышенным эмоциональным интеллектом, и я верю, что это так! Я верю, что это так, потому что я вижу маму, она вовлеченная, она этим горит, ей все это очень нравится, она их развивает, но я выхожу после программы, конечно, в состоянии дичайшего чувства вины и ощущения, что я что-то неправильно делаю. Прихожу, значит, к детям и говорю: «Значит так, дорогие мои сыновья, я хочу вас уведомить, что телефоны, скорее всего, на Великий пост я у вас заберу». И мне старший ребенок говорит: «Ты знаешь, я начинаю недолюбливать твою работу». (Смеются.) И вот мне попадается ваша книга, вот совершенно чудесным образом попадается, я её залпом, в захлёб читаю, при том, что психологические книжки, о которых сказала Костя, ну реально мне очень скучно читать, объективно, мне тяжело их читать. Потому что в одной психологической книжке говорится о том, что у ребёнка должно быть очень много разных занятий, он должен развиваться многопланово, у него не должно быть свободного времени, нужно искать бесконечные его таланты, а в другой психологической книжке говорят, оставьте своих детей в покое, пусть они сидят и делают, что хотят. Поэтому как-то я так устала на самом деле каждый раз воспринимать это как истину в последней инстанции, что в принципе перестала их читать. И вот мне попадается ваша, и буквально с первых страниц меня затянула книга. Почему? Потому что вы говорите там правду. Ну серьезно, вы говорите там правду. Вы говорите, что дети могут быть разные, что родители могут быть разные, что кто-то работающая мама, кто-то не работающая, кто-то отдаёт детей в школу и в сад, кто-то нет. И это всё прекрасно, и это всё может быть очень по-разному, и на самом деле не на этом жизнь строится и общение с детьми. И сразу после прочтения этой книги я перестала каждые полчаса заходить в комнату к ребёнку и проверять, что он делает: сидит он там в телефоне или нет, сделал он уроки или нет, почитал он свою норму дневную или не прочитал. И он к вечеру подходит к мужу, и муж мне это рассказывает, и говорит: «Папа, у меня был сегодня такой счастливый день». Он говорит: «Почему?» Сын отвечает: «На меня никто не давил». Как бы я имеюсь в виду, видимо, значит. «Меня никто просто так ничего не лишал и не обижал, — сын, говорит, — Прожил день в полной свободе». Я к нему подхожу и говорю: «Ну, смотри, если я совсем-совсем ничего не буду делать, мы с тобой будем просто прекрасно общаться, потому что мне тоже эта очень роль тяжела. Ну ты же утонешь там в этом интернете! Он очень манящий.» И у ребенка нет сил сопротивляться гаджетам, это очень тяжело, вот этот синий экран. Он говорит: «А ты можешь просто уважительно и подружески мне напоминать: что в общем, сынок , пришло время почитать. Давай, ты уже как бы ... уже ты долго общаешься с друзьями, пришло время почитать. Давай там мы с тобой что-то поделаем, может мы с тобой прогуляемся, пришло время, уроки там». «Ты, — говорит, — можешь мне просто, вот просто аккуратно напоминать, без этого гнёта!»
Константин Мацан
— Сразу вспоминается фильм «Крёстный отец», «Ты говоришь это без уважения!»
Кира Лаврентьева
— «Ты сделал это без уважения!» Я понимаю, что да, действительно, мальчики, действительно, мама может вот такой гиперопекой, гиперзаботой с помешанной на давлении, умноженной на давление, их очень быстро и легко сломать. И тут, конечно, совсем другая реальность открывается. Мы защищаем детей от гаджетов, но мы делаем их совершенно лишёнными всяческих своих собственных желаний, потому что мама везде, она заполняет всё твоё пространство, она такая вся любящая, контролирующая, готовая решить все твои проблемы. Татьяна Вадимовна, ну мы пробуем! Мы с конца 80-х, 90-х, мы сами, честно говоря, не знаем, как правильно. С нами родители делали так, а мы делаем иначе, всех воспитывали по-разному. Мы пробуем, мы пытаемся так, этак. А как нужно? Вот как реально с ними жить-то, с этими детьми?
Татьяна Склярова
— Я тоже не знаю.
Константин Мацан
— Следующий вопрос, пожалуйста. (Смеются.) А можно я спрошу, а есть ли для вас, как для педагога, грань, за которой вот такое здоровое, как бы отпускание ребёнка и недавление переходит в нездоровое какое-то там, не знаю, уже нерадение, неответственность, что-то такое подобное?
Татьяна Склярова
— Есть, конечно.
Константин Мацан
— А как вот её найти?
Татьяна Склярова
— Вот я сейчас слушала внимательно Киру, и огромная благодарность за это признание, да, потому что ведь сама идея книги, и те, кто её уже успел прочитать, увидели, что она выстроена в жанре диалога, где нет ответов на ... Правильных ответов на поставленные вопросы, а идет такой вот поиск того, какие еще есть особенности, повороты, какие еще нюансы, может быть, будут или так далее, да. И вот эта вот исследовательская такая позиция... Знаете, самое интересное, я обязательно отвечу на ваш вопрос, самое интересное, что вот до этой книги я написала много монографий и учебников. И имела возможность несколько раз убеждаться в том, что даже студенты, которые в ночь перед экзаменом читают этот учебник, потом рассказывают мне свою версию того, что они там увидели. И в какой-то момент я поняла, что всё, больше я не хочу писать учебников, монографии, но за 30 лет я ничего другого не научилась писать, поэтому, когда издательство «Вольный Странник» предложило мне переиздать очередной раз «Возрастную психологию», которая стала в какое-то время, знаете, очень востребована. Я сказала, нет, давайте мы напишем что-нибудь популярное для родителей, но я не умею так писать, мне нужен собеседник. И они ушли на какое-то время, а потом вернулись и сказали, мы нашли такую собеседницу, это Мария Минаева, она мама, она филолог, она сейчас в моменте воспитывает детей. А когда я формулировала свои пожелания, сказала, знаете, мне кого-нибудь позубастей в разговорах, потому что вот это вот...
Кира Лаврентьева
— Уверенность.
Татьяна Склярова
— ... вещание, как Ездра, когда я знаю, как правильно, я же книжки прочитала, и, вообще, я уже доктор наук, сейчас я вам скажу, как правильно. Оно портит. Портит общение.
Кира Лаврентьева
— Картину.
Татьяна Склярова
— ... портит картину. А когда вот из реальности приходит человек и говорит: вчера с детьми было вот это, ну-ка, профессор, скажи-ка, пожалуйста. И поэтому я обещала ответить на ваш вопрос. Не знаю, развернула ли я или нет, но вот этот поиск грани — это не раз и навсегда формулировка, а это постоянное включение меня, как сейчас принято говорить, в моменте, в реальности, во всем прочем. И второй момент очень важен. Вот я теперь обращаюсь к тому, о чем сказала Кира. Ее сын, заявил уже четко, я субъект, у меня есть свои желания, у меня есть свои интересы, у меня есть своё это, и я жду к себе уважения, не требую пока еще. Чуть попозже, когда в возраст войдет, уже можно будет предъявить вот эти требования в качестве того, что: уважайте меня, стучитесь в мою комнату, когда вы планируете ко мне зайти, либо согласовывайте со мной график ваших выходных. И это норма. Человек взрослеет, и у него появляется возможность сказать: это я, и я вот такой.
Константин Мацан
— Татьяна Владимировна Склярова, доктор педагогических наук, профессор, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы, как раз, сказали про стучаться в комнату ребёнка. Я улыбнулся, у меня недавно сын, правда с иронией, в шутку, без протеста, а просто так вот в качестве некого жеста повесил на дверь своей комнаты два листа А4. На первом было написано «Не стучать!», на втором было написано «Без стука не входить!». Это было очень мило.
Кира Лаврентьева
— Да, это действительно очень мило, но как-то я не помню, что наши личные границы сильно кто-то охранял. Уважительно относились.
Татьяна Склярова
— Возвращаемся к нашей ошибке, с чего мы начали.
Константин Мацан
— Вот одна из глав вашей книги называется «Почему ты не хочешь того же, чего хочу я?» Очень такой бьющий в сердце вопрос, когда его к себе обращаешь, действительно ловишь себя на том, где даже когда просто просматривая оглавление: О, понимаю, это про меня! Да, вот действительно такой паттерн, когда ребёнок должен хотеть чего-то правильного, нужного, того, что хочешь ты. И я, с одной стороны, очень мне будет интересно, что вы скажете о том, как в себе этот паттерн как-то преодолеть. А с другой стороны, нет ли здесь чего-то в том числе естественного для родителя? Ну я более опытный, более знающий, есть какие-то вещи, которые действительно для меня являются моментами забот, ограничения, безопасности, или просто я вижу дальше, чем видит ребенок. Я знаю последствия, которых он не знает. И в этом смысле я думаю, что вот этого тебе лучше бы не хотеть, и стараюсь там как-то это ограничить. Опять же, другая крайнсть — это полностью всё пускать на самотёк, и это снова вот в таком вот диалектическом развитии мы к этому вопросу приходим. Где грань? Что вы об этом думаете?
Татьяна Склярова
— Знаете, у меня, так как я вот почти 30 лет читаю эти лекции по взрослой психологии, и регулярно отвечаю разным категориям родителей на аналогичный вопрос: если вот так? Или вот так? И в начале своего преподавания в православном университете я всегда обращалась к метафоре царского пути, говорила: «Выбирайте золотую середину: ощущайте право, ощущайте лево. Идите царским путём». Потом меня саму эта метафора перестала удовлетворять. Я думаю, всё-таки я учёный, надо что-то более конкретнее, потому что царский путь — это, конечно, одел себе корону на голову, идёшь — это царский путь, да, а потом тебе дети говорят: мама, я там... пошел к врачу и все такое прочее, и ты понимаешь, что вообще корона уже давно...
Кира Лаврентьева
— Слетела.
Татьяна Склярова
— ... как бы превратилась во что-то другое. И поиск вот этого критерия, это вот серьезно в какой-то момент я стала думать, ну как, какие объективные критерии, которые и в моих руках, и при определенных навыках у других родителей могут начать работать. И вот так я вышла на категорию душевной зрелости. Не то, что это я придумала, это огромное количество исследователей обращались в XX веке именно к тому, что есть еще жизнь души, есть жизнь интеллектуальная, есть жизнь физическая, есть жизнь психическая, психологическая, вот жизнь души. Да, это настолько неуловимая, настолько эфемерная история, но если мы говорим о православных родителях, то к ним можно обратить вот этот посыл о том, что у вашего ребенка есть душа. Дальше читайте книги по православной антропологии, что там, какие свойства души, я не про это — а как мы наблюдаем проявление душевной жизни ребёнка и развитие души: по сочетанию интеллектуального и эмоционального баланса в реакциях, в состояниях ребёнка. Здесь уже придётся покопаться в психологии, причём не в популярной, а хотя бы в общей психологии, разобраться, чем эмоции отличаются от чувств, что такое мыслительный процесс — когнитивный, что такое эмоциональное контрпроявление, но тут как раз родителям неплохо бы потрудиться, для себя определить какой-то такой теоретический базис, сделать для себя определённый выбор и быть последовательным. Как говорят педиатры, самое большое количество обращений с болезнями детей происходит после праздников. Почему? Нарушается ритм, нарушается уклад.
Константин Мацан
— Интересно.
Татьяна Склярова
— Уклад... и вот этот вот уклад, который родитель сам определяет, и ещё лучше, если они договариваются, мама с папой, о том, как они воспитывают детей. И все дискуссии по поводу того, кто здесь более прав, пускай они остаются за рамками детской или общей комнаты, но вот это вот единство, явленное родителями, вот этот фундамент такой, знаете, вот именно основательный, он является самой плодотворной почвой для развития ребёнка. И для меня с годами гораздо важнее становится физическое здоровье детей. Вот именно физическое здоровье, потому что на своём опыте я в том числе убедилась, что если что-то не так, то первый сигнал идёт от того, что ребёнок просто заболевает.
Константин Мацан
— В здоровом теле здоровый дух?
Татьяна Склярова
— Там есть продолжение.
Константин Мацан
— Хотя это не точная цитата.
Татьяна Склярова
— Да-да, там есть продолжение. И вот эта вот мысль о том, что вот я теперь возвращаюсь к научным. Да, я говорила о том, что я искала критерии вот этого царского пути, то есть как мы будем наблюдать. Мы говорим красиво, что мы идем срединным путем — царским путем, но мы наблюдаем за эмоциональными проявлениями ребенка, мы наблюдаем за его интеллектуальным развитием. Когда оно в норме? Когда ребёнку интересно, когда ему хочется. Это вообще природный дар, это не мы сделали. Вот так вот Господь устроил, что вот в возрасте там, я не знаю, до семи, до двенадцати лет человеку всё интересно, ему всё нужно. И хорошо бы, чтобы вот этот дар в этом возрасте по максимуму был проработан. Вот это предложение к родителям. Итак, я завершаю, да, душевная зрелость как сочетание интеллектуального и эмоционального проявления в ребёнке, его субъектность, субъектность — это опять не философская категория — это признание за ребёнком, даже если ему два дня от роду, неких его личных потребностей, нужд, желаний там и чего-то ещё. И вот тут опять я возвращаюсь к медицинским показателям. Ещё один момент, ещё один критерий может быть для нас тоже таким, что называется, ориентиром — это физическое самочувствие ребёнка. Я тоже для себя вдруг открыла, что очень известные педагоги, популярные педагоги XX века, это те, кто пришёл из медицины: Януш Корчик известный, да, дальше там Мария Монтесори известная, дальше мало известная в России, но многие специалисты знают про систему «Лоцци», это венгерская система — «Лоцци». На самом деле это был детский дом в 1946 году, в Будапеште открыт детский дом, и там был замечательная врач-педиатр, которая всему обслуживающему персоналу сделала, как сейчас говорят, установку о субъектности этих детей, что когда ты меняешь ему распашонку, ты должна ему объяснить, что сейчас будет правая рука, а потом левая, а ребенку три месяца, и он сирота. И вот эти вот результаты, такого, опять же возвращаюсь, субъектного отношения к детям, они давали потрясающие плоды в свои годы, ну ещё и Франсуаза Дольто, известная тем, что она была изгнана из лиги психоаналитиков за ненаучность своего подхода. Именно так, она разговаривала со всеми детьми, даже с детьми, которые находились в утробе матери. И они её слышали и давали реакцию.
Кира Лаврентьева
— Татьяна Вадимовна, мне очень понравилось как вы говорите в этой книге, впрочем, кстати говоря, надо сказать уже, как она называется. Она называется «Как воспитать счастливого человека», где вы буквально с первых страниц говорите о том, что человек должен быть очень личностно развит. И если так случилось, что родитель сам, родив детей, личностно не развит, у него есть шанс личностно развиться, но к этому мы ещё вернёмся. Что мне очень откликнулось, вы рассказываете о своём собственном детстве, рассказываете о том, что знали много поп-музыки так же, как, в общем-то, все ваши сверстники. Потому что, ну, в этом был бунт, это было модно, это звучало из каждого утюга, но ваши родители слушали, например, классику, Окуджаву, каких-то бардов хороших, и в итоге, когда вы выросли сами, вы вернулись к той самой классике, и это случилось отнюдь там не в 40 лет, а в 19-20 лет, к тому же Окуджаве, к тем же бардам, и вы так вот ненавязчиво, мне кажется, в этом смысле намекаете на то, что вот такая вот атмосфера любви в родительском доме, она сама по себе и воспитывает. И если там хорошо, то всё, что делают родители, это в принципе воспринимается как хорошо, и если ребёнок во взрослом возрасте хочет вернуться ментально вот в свой вот этот вот родительский дом, он начинает делать то, что делали родители. Я это очень хорошо понимаю, но тут ведь очень тонкая грань между неким морализаторством и всё же вот такой свободной, любящей атмосферой дома. Что значит морализаторство? Приходит там ребёнок, слушает какую-то музыку в своей комнате, а ты тут включаешь Моцарта, или второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром и с очень интеллектуальным видом начинаешь смотреть в окно, прищурив глаза. (Смеется.) Ну, в общем, твоя музыка, она очень неправильная, а моя очень правильная, вот здесь всё же вот эту вот тонкую такую грань, которую надо обтесать. Как это выстраивать лучше?
Татьяна Склярова
— Во-первых, это история от Марии Минаевой, то есть это её воспоминания, там...
Кира Лаврентьева
— Её воспоминания, они же меняются... поэтому, простите, я...
Татьяна Склярова
— Да-да-да, но это всё нормально, это как раз вот такой вот, что называется, жанр книги. Да, и я тоже могла бы рассказать аналогичные истории о том, что в определенном возрасте всё, что делали родители, для меня было знаком того, что я-то уж точно буду делать совсем иначе.
Кира Лаврентьева
— Не так!
Татьяна Склярова
— Абсолютно не так! Потому что это вообще ни в какие ворота... А с прошествием времени обнаруживала, что всё похоже на то, как это было в родительском доме, это называется импринтингом — запечатлением. Мы это воспроизводим и так далее, и так далее. Что конкретно об этой истории, знаете, приходит время, и не только с юга птицы прилетают, но и дети начинают испытывать на прочность всё то, чему и как их учили в родительской семье. Я понимаю, что ваш пример, он как раз вот об этом времени. Когда сколько бы ни звучал Моцарт и Шопен в родительском доме, надо проверить, на самом деле, в какой степени это всё по-настоящему, поэтому звучит что-то другое. И можно рассматривать это в том числе как проба на настоящность всего того, что было в предыдущем возрасте, потому что вы же не в этот момент начали включать классическую музыку, когда вашему ребёнку стало 12 лет, вы и до этого, наверное, если вы её любите, включали. А если вы к 12 годам решили, что пора включать Моцарта, то он вам, честно, ребёнок скажет: «Мама, ты чего? Почему, ты после тех же бардов, теперь у нас Моцарт?» Это как раз возможность поговорить, и это связано с интеллектуальным развитием. После 10-12 лет уже формируется возможность обобщать, делать какие-то умозаключения. И куда ребёнок пойдёт с этим новым качеством, с этим новым образованием? Конечно же, в семью, и он будет в семье вот это вот являть. Вот он научился обобщать, он учился подмечать, сравнивать, сопоставлять и делать выводы. Хороший навык!
Константин Мацан
— Мы вернёмся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Татьяна Склярова, доктор педагогических наук, профессор. Не переключайтесь.
Кира Лаврентьева
— Программа «Пайдейя» на Радио ВЕРА продолжается, у нас в гостях Татьяна Склярова, доктор педагогических наук, профессор, у микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Константин Мацан
— Татьяна Владимировна, мне очень понравилось то, что вы сказали, это такая смена какой-то проекции, что если я вас правильно услышал, вот, предположим, в семье — в детстве слушали там классику, бардов и так далее, потом ребёнок в каком-то возрасте включает «Короля и Шута».
Кира Лаврентьева
— Это ещё хорошо.
Константин Мацан
— Это, кстати, хорошо, это нам вообще повезло, это музыка моей юности, поэтому у меня нет протеста против того, что ребёнок это слушает, но, там, предположим, какую-то попсу даже. И, естественно, реакция родителя против этого восстать, как-то на это обидеться. А вы предлагаете по-другому посмотреть, в каком-то смысле, то, что ребёнок слушает не то, что вы слушали с ним раньше — это хороший признак того, что он, в общем-то, проверяет на прочность, он все равно по поводу вас, по поводу старой культуры. Он просто предлагает некий как бы диалог. И тогда, получается, его смена вкусов — это не фиаско, а это этап — этап утверждения его, как бы этап его усвоения ранее впитанной музыки. Это очень здорово и мне это очень как-то нравится и тогда просто правильно я понимаю, что получается, ну, в известной степени стратегии родителей в этой ситуации не в том, чтобы оспаривать может, и уж тем более запрещать и как-то давать оценку плохой музыке, которую ребёнок слушает, а в том, чтобы продолжать, ну, если угодно, стоять на своём. Вот, хорошо, у тебя там условно, кто там, не знаю, «Сигма-бой», вот сейчас популярная песня.
Кира Лаврентьева
— Нет, не говори это. (Смеется.)
Татьяна Склярова
— Я уже слова выучила.
Кира Лаврентьева
— У меня младший принёс.
Константин Мацан
— Я, кстати, так и не послушал, знаю только, что все её слушают. Знаете, как классик, это те, кого хвалят, не читая. Вот я не слышал, но и не осуждаю. Но это не повод говорить, там, не слушай, а как бы, ну, а я включу по-прежнему Рахманинова, да, ничего не навязываю. Пусть такое немножко исповедничество для родителей — продолжать просто своё.
Татьяна Склярова
— Даже не немножко, я бы сказала. Вот тут как раз есть настоящее исповедничество родителей — быть самим собой, являть себя, не навязывая, но проявляя в ответ. И мы опять возвращаемся к диалогу, к настоящему диалогу. Да, ты такой, у тебя вот «Сигма бой», вот у нас вот выходные, все выходные мы с супругом слушали, потому что внучки танцуют только под это.
Кира Лаврентьева
— (Смеется.) Но теперь вы вошли в новую реальность.
Татьяна Склярова
— И супруг спросил: «Будем родителям рассказывать? Я говорю: они, наверное, сами знают. Ну, в общем, пускай сами разбираются.
Константин Мацан
— Да, родители знают. (Смеется.)
Кира Лаврентьева
— Да, все выходные слушать. (Смеется.)
Константин Мацан
— Да, нельзя не знать.
Кира Лаврентьева
— «Сигма-бой» — это жёстко.
Татьяна Склярова
— Да.
Константин Мацан
— Захочешь не знать, не получится.
Татьяна Склярова
— Именно. И здесь как раз, ну, как сказать, вот эта вот полифония, то есть это вот звучание каждого — звучание и проявление каждого. И да, это интересно, но это сложно.
Кира Лаврентьева
— Владимира Романовича Легойду на встрече со студентами спросили: Вадимир Романович, а вот почему вы, значит, своих детей крестили в детстве, а не стали дожидаться, пока они вырастут и сами сознательно примут решение, какую веру им выбирать, как им жить? И он так мудро ответил, он говорит: вы понимаете, как я могу не поделиться с детьми тем, что действительно меня радует, то, что я открыл, то, что для меня является настоящей жемчужиной. Как я могу не поделиться этим со своими детьми? И я подумала о том, что это вообще может быть на всё распространено: и на музыку, и на фильмы, и вообще, в принципе, на собственные взгляды какие-то на мир, пусть они будут даже местами чисто субъективны. Ребенок же сам отсеет, что ему нужно, что ему не нужно, я имею ввиду, из какого-то культурного такого вот воспитания. Но у нас очень часто все равно идет речь в этой программе об образовательном пространстве неком дома. И вот вы сейчас рассказываете, что вы все выходные слушали «Сигма-бой», а недавно я разговаривала с психологом, у которой миллион внуков и миллион детей, она очень-очень замечательная, Евгения Ульева, кстати говоря, частая гостья на Радио ВЕРА. И, конечно, это был личный разговор, но я думаю, что она не против, если я его озвучу частично. Она говорит: слушай, ко мне приходит внучок, и он, значит, очень-очень много может проводить времени там в игрушке компьютерной — в футбол он играет. Там сложный футбол, там надо думать, там надо расставлять игроков, то есть сложная игра. И я, говорит, ему позволяю. Я говорю, а зачем, Женя? Ты же должна понимать, что это же вообще... Она говорит, слушай: я ему позволяю, зато у него идёт полная психологическая разгрузка у меня дома, и он говорит всем: я люблю свою бабулю. (Смеется.)
Константин Мацан
— Вот только бабушка такое себе может позволить.
Кира Лаврентьева
— ... я люблю бабулю. (Смеется.)
Татьяна Склярова
— Бабушка, которая закончила курс возрастной психологии у нас.
Кира Лаврентьева
— Правда!
Татьяна Склярова
— Она одна из моих первых студенток и выпускниц.
Кира Лаврентьева
— Она, кстати, это рассказывала.
Татьяна Склярова
— Да, да, да.
Константин Мацан
— Мама моя любит говорить: хорошо быть бабушкой, вот ты не отвечаешь за ребёнка. Ты можешь его баловать, и тебе за это ничего не будет, потому что это твоя функция. Пускай родители там ограничивают, воспитывают, как-то решают, сколько ребёнок должен проводить время за компьютером в компьютерных играх, а я бабушка и дедушка, мы просто... Как даже сформулировал мой духовник, он, правда, это по поводу крёстных сформулировал, но к бабушкам и дедушкам тоже относятся. Может быть, у вас Татьяна Владимировна есть какие-то на эту тему мысли? Он говорит, в чём функция крёстных вот для детей? Сначала, прежде всего заработать авторитет, вплоть до дешёвого.
Кира Лаврентьева
— Дешевый авторитет, да.
Константин Мацан
— Вплоть до дешёвого.
Кира Лаврентьева
— Да, да, вот это конфеты дарить. (Смеются.) Но мне очень ещё понравилось, что Женя добавила фразу, она говорит, слушай, ко мне приходит столько людей, И, конечно, приходят иногда очень изломанные, но даже у очень изломанных людей есть светлое воспоминание в виде какой-нибудь бабушки, которая его там кормила пирожками, и у них всё было хорошо.
Константин Мацан
— Татьяна Владимировна, а для вас вот субъективно, опыт родительства и опыт быть бабушкой внуков, в чём внутренняя разница ощущений?
Татьяна Склярова
— Если говорить обо мне, то я могу честно сказать, не успела оглянуться, как выросли мои дети. И в какой-то момент, ну, так часто бывает, люди, которые много размышляют, они к себе очень много претензий предъявляют. То есть я начала очень строго себя судить за то, что вот упустила те моменты, когда надо было быть с детьми, когда вот там вот то-то, то-то, ну и поклялась себе, что вот с внуками-то точно у меня всё будет...
Кира Лаврентьева
— Окей.
Татьяна Склярова
— ... окей, теперь временами думаю, ну сейчас жизнь долгая, может быть, с правнуками получится.
Константин Мацан
— Гениально. (Смеются.)
Кира Лаврентьева
— Класс!
Константин Мацан
— Знаете, я хочу ещё вопрос вам задать. Рискую, конечно, впасть в морализаторство, но это действительно тема, которая меня очень волнует в последнее время. Она уже не столько про именно детей, сколько про паттерны родителей. Вот вы сказали важную вещь, и мы читаем её у всех психологов и у святых, которые дают советы родителям: родители должны выступать единым фронтом, вот не должно быть каких-то ссор, споров и выяснений, как мы воспитываем ребёнка при ребёнке, вот согласитесь друг с другом на глазах у ребёнка, а потом всё выясните. Мудрейшее правило, чем дальше там я смотрю на себя, тем больше я понимаю, что оно работает только в ситуации, когда оба родителя обладают смирением. Потому что, если я в гневе на ребёнка срываюсь, а мама, следуя этому правилу, должна в этот момент меня поддерживать, чтобы, хотя, может быть, это дело несправедливо, не нужно, из-за нервов и так далее, то мама оказывается в очень какой-то странной ситуации, может быть, спорной. Ну и наоборот такое бывает. И вот не получается ли так, что вы об этом думаете, что вот это правило золотое родительское — единым фронтом выступать, работает только тогда, когда каждый родитель по умолчанию как бы себя сдерживает, следит за собой и пытается не срываться по пустякам, себя контролировать, тогда люди могут друг друга поддерживать и даже при каких-то небольших несогласиях вот быть единым фронтом.
Татьяна Склярова
— Я бы отказалась от слова фронт, потому что мы не воюем с нашими детьми.
Константин Мацан
— Ну, хорошо, согласен, да. Выступать единой командой.
Кира Лаврентьева
— Кстати, это очень важная поправка.
Татьяна Склярова
— Да, вот дальше, конечно, мы ищем тот образ, который являют родители в глазах ребенка. И для меня оптимальным является, знаете, вот такая вот почва, такая клумба, да, то есть мы даем основу. Мы с тобой вдвоём стоим в основании как «Атланты и кариатиды», поддерживая вот эту вот балку там и всё последующее. И если пользоваться метафорой «Атланты и кариатиды», у нас у каждого своя особенность и внешняя, и в реакциях эмоциональных, и в интеллектуальных, и в многих других моментах. И вот это вот вместе и индивидуально — это глубинный фундамент, который уходит уже в землю, да, вот этой вот такой онтологической устойчивости для ребёнка. И вот не всегда это получалось, но, вы знаете, оно максимально, что называется, надёжно: папа вот такой — мы все это знаем, я его люблю таким, мама у нас вот такая — мы же все её любим, вот с её этими особенностями. И тогда вот это вот различение, вот это вот разнообразие, оно становится богатством ребёнка, не единый фронт безликий, который со мной почему-то опять воюет, а вот это вот цветущее разнообразие проявлений.
Константин Мацан
— Цветущая сложность.
Татьяна Склярова
— Цветущая сложность, да, от которой мама временами хватается за голову, уходит в соседнюю комнату и говорит, папа пришел уставший, или как-то по-другому, или она его уводит куда-нибудь и говорит... Ну, это просто живые кейсы, да: дети, так это, все ушли, сейчас мы с папой порешаем вопрос, потому что у него сегодня был непростой день. Мне кажется, вот это вот, если говорить о семейной среде, именно это закладывает такие здоровые реакции устойчивости и вместе с тем эмоциональной отзывчивости. Мы же не хотим, чтобы наши дети были такими, что называется, бесчувственными, мы хотим, чтобы у них была эмпатия, чтобы они ощущали состояние другого человека, чтобы они знали, что в определенных состояниях надо дать человеку прийти в себя. И вот эта вот цветущая сложность, она и есть лаборатория каждой семьи, вот в каждой семье свой лабораторный стол ... что тут у нас, что называется, отрабатывается, какие навыки.
Кира Лаврентьева
— Татьяна Владимировна, вопрос про эмпатию. С одной стороны, это хорошо, да, чувствовать, что чувствует другой человек, но с другой стороны, это может тоже переваливать в такую болезненную сферу, когда ребёнок был настолько направлен на маму свою собственную в детстве — ему очень важно было почувствовать, что она чувствует, чтобы правильно под неё подстроиться...
Татьяна Склярова
— Чтобы выжить.
Кира Лаврентьева
— Да, чтобы выжить, и потом уже взрослый, очень чувствительным вырастает.
Татьяна Склярова
— Да, да.
Кира Лаврентьева
— Он чувствует даже мимо проходящего человека, и это тоже может быть проблемой. Он начинает уже подстраиваться под любого человека, чтобы опять же себе не нанести никаких лишних ран.
Татьяна Склярова
— Есть, есть такое. И эти люди во взрослом возрасте, да, отправляются к психологам с тем, чтобы поработать вот с этой...
Кира Лаврентьева
— Со сверхчувствительностью.
Татьяна Склярова
— Автоматической реакцией.
Кира Лаврентьева
— Со считыванием.
Татьяна Склярова
— Да, да.
Константин Мацан
— Татьяна Владимировна Склярова, доктор педагогических наук, профессор, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот то, что вы сказали, как-то мне кажется, очень важно и тоже попадает в меня, потому что у меня в своё время очень так заставило задуматься, слова одного очень опытного педагога и психолога. Она мне сказала, когда ребёнок спрашивает: «Пап, как дела?», — не стыдно сказать: «Знаешь, плохо». Вот я как-то привык, не знаю, меня так не воспитывали, но так сложилось, что как-то нужно сказать, ну, нормально всё, я не буду сейчас вываливать на тебя свои проблемы. Но, может быть, проблемы-то и не надо вываливать, но честно признаться, что мне сейчас грустно, это даже полезно в каком-то смысле для ребёнка, если это не всё, что папа говорит, ему не каждый день грустно, всегда, безапелляционно, то, наверное, в каких-то нормальных дозах — это здоровое отношение. И то, что вы говорите, это кажется очень близко к этому: вот там папа пришёл, устал и мы идем в другую комнату. Мы не стесняемся того, что мы живые. Тогда встает вопрос, а вот дайте какой-нибудь, не знаю, лайфхак. А как экологично говорить о своих эмоциях? Вот как, опять же, различать то, что ты вываливаешь и как бы разряжаешь свои эмоции на ближних? Или ты доверительно признаешься: что слушайте, дайте мне полчаса посидеть в тишине, я очень устал, через полчаса пойдем играть в «Руммикуб», а пока я хочу побыть один.
Татьяна Склярова
— Вот знаете, одна из ключевых на самом деле линий в этой книге именно об этом эмоциональной культуре взаимодействия. И здесь имеет значение, какого возраста ребёнок, то есть именно потому, что дети, которые маленькие, они считывают просто по риторике тела взрослого и по мимике, что очень важно, по мимике. Дети до года вообще просто сканируют эмоциональное состояние родителей или тех, кто за ними ухаживает. Знаете, по каким критериям? По мимике, и по сердцебиению, и по ритму дыхания. И этих субъектов не обманешь в том, что я, вот как вы говорите: раздражён, уставший, и так далее, и так далее. То есть эта информация, она поступает, и более того, последние исследование, последние, я говорю, 21 века, потому что все эти наблюдения за активностью коры головного мозга, они стали массовыми, и поэтому набралась большая такая статистическая выборка того, как формируется мозг ребёнка. Есть замечательная книга, и я на неё ссылаюсь, Сью Герхардт, она нейрофизиолог, англичанка, «Как любовь формирует мозг ребёнка». И это такой фундаментальный научный труд, показывающий, как прям буквально по дням, по месяцам формируются нейронные связи в коре головного мозга ребёнка первого года жизни после рождения. Потому что человеческое существо — это единственное существо, которое рождается с неоформленным мозгом. И он оформляется весь первый год: и физически растёт, и вот это, как говорят, базовая настройка происходит. Поэтому наше состояние, я отвечаю теперь на ваш вопрос, наше состояние не секрет для наших детей, вообще не секрет, они считывают это. А вот культура того, как мы это называем, как мы к этому относимся, именно эта культура формирует у ребёнка более высокий уровень, не только эмоциональный отклик и считывание эмоций, это и животные могут сделать, а вот чувство как названное состояние — это то, собственно, для чего мы, взрослые, нужны детям в нашем человеческом обществе, только для этого, чтобы научиться окультуривать свои реакции, естественные реакции: эмоциональные, интеллектуальные и так далее, и так далее. И вот тут как раз, ну что такое культура? Это зазор между стимулом и реакцией. Вот научить ребёнка, когда приходит стимул, да, сделать три выдоха, прежде чем дать реакцию. Я упрощаю, конечно, но вы понимаете, о чём я говорю. Поэтому говорить о своих состояниях взрослому полезно, но здесь имеет значение, как это происходит.
Константин Мацан
— Вот вы сказали, названное чувство, чувство названо, но если не все отправятся книги после нашей программы читать, вы можете сформулировать для нас, непросвещенных, как различаются чувства и эмоции? В чем между ними разница для педагога-психолога?
Татьяна Склярова
— Это будет, что называется, авторская редакция, и предвижу, да, что будут возражения, но скажу, я в последнее время следую концепциям современных психологов, нейропсихологов о том, что эмоциональная реакция — это физиологическая реакция, это реакция организма на сигналы из внешнего мира, и она не опосредуется неокортексом, то есть рациональной частью мозга она не успевает туда дойти моментально, что называется. И, опять же, из популярной психологии, это когда наш организм, где у нас как бы большая часть нервных окончаний находится, опять же, не в голове, а во всём теле, он каким-то своим критерием определяет опасность. И, если посмотреть политру эмоций, вот таких эмоций, которые приняты в нашей культуре, там радость, удивление, их не так много. Очень много реакций, которые в нашей культуре принято скрывать, не сильно выражать — это гнев, раздражение, обида, что-то еще, да, но это тоже некая такая эмоциональная реакция. Что делает эта эмоция? Она защищает своего хозяина от ситуации «что-то пошло не так». А вот дальше уже, если вот эта первая эмоциональная реакция она пошла, и по разным данным она буквально 90 секунд длится, то, что нас роднит со всем животным миром, да, а вот потом уже начинается усложнение, потом уже идёт осмысление того, что же произошло. И вот как раз-таки у детей эта непосредственность, та самая непосредственность, мы наблюдаем её в опыте: что произошло, то сразу и дал. Потому что вот этого оккультуривания пока ещё не произошло, это как раз для этого детство и дано — длинное детство. И взрослые наставники нужны для того, чтобы научить оккультуривать вот такую непосредственную реакцию организма. А вот когда идёт оккультуривание реакции, да, это уже нам в помощь, что называется, всё богатство человеческой культуры: и музыка та самая, и поэзия, и правильные слова, и правильные выражения, я не знаю: «держать спинку», — это оттуда же всё идёт, да, но это вот как раз-таки и говорим мы об образовании, о долгом пути, когда мы учим человека совладать со своими реакциями. И это достаточно долгий путь, вот это оккультуривание эмоциональное. И вот теперь конкретно, то есть эмоция для меня это то, что непосредственно вылетело, и всё, и не поймаешь. А чувство — это когда уже включается неокортекс, когда находятся слова, образы, звучания, примеры и так далее. И если говорить о том, где же живёт чувство, обычно показывают вот здесь.
Константин Мацан
— На лоб сейчас показывает, Татьяна Владимировна.
Татьяна Склярова
— Да, а где живёт эмоция? Везде, понимаете. Вот это вот выражение, вот это то, что называется риторикой тела, это вот эмоциональный окрас. Это то, что наши младенцы считывают, не пользуясь ещё вот неокортексом.
Константин Мацан
— Один очень опытный психолог, очень много повидавший в жизни, работавший в детском доме с детьми, сказал у нас в программе вещь очень афористичную, которую я запомнил: когда вы говорите с ребёнком, не обращайтесь к голове, там мозг, говорите к сердцу. Вы что об этом думаете? Вы согласны с этим?
Кира Лаврентьева
— Ты это ещё так продекламировал!
Татьяна Склярова
— Это прям отдельная тема, потому что да, в новых условиях, вот с этими новыми данными, мы опять обращаемся к сердцу, как вот да... Это что? Это место, где обитает душа или что-то ещё? Ну да, вот я сказала, что младенцы очень хорошо ориентируются на сердечный ритм того взрослого, который держит их на руках. И они понимают, он сейчас в спокойном состоянии или он сейчас в беспокойном состоянии, и вырабатывает соответствующую реакцию. Поэтому, да, к сердцу, неплохо.
Константин Мацан
— Интересно, вы сказали, что мы обращаемся к последним данным науки, а вот христианское богословие с библейских времен знало, что сердце — это средоточие личности, то есть мы открываем то, о чём церковь говорит уже много-много веков.
Кира Лаврентьева
— Да, опять же, призываем всех читать светых отцов, и себя в первую очередь. Татьяна Владимировна, вот ещё вопрос такой животрепещущий по поводу подростков. Понятно, что кто как говорит об этом периоде: кто-то говорит, что его надо просто пережить, кто-то говорит, что перечить подростку нельзя, нужно со всем соглашаться, кто-то говорит, что посеешь, то и пожнёшь, что ты до 12 лет успел вложить, то ты и получишь в ближайшие там с 12 до 17 ... до 18 лет. Понятно, что...
Константин Мацан
— В ближайшие лет 30-40.
Кира Лаврентьева
— Да-да-да, понятно, что всё это в той или иной степени имеет место быть. Недавно слушала подкаст, что подростковый возраст, внимание, длится, по новому исследованию учёных, до 28 лет. До 28-ми! Татьяна Владимировна, то есть мозг заканчивает формироваться, мозг современного человека, годам к 30-ти. Вот там у него уже, может, что-то на место встанет. И тут возникает вопрос, а что с этими подростками делать? Как им помочь образование получить, когда они, например, в потолок плюют, вместо того, чтобы готовиться, ходить к репетиторам, не знают вообще, куда им поступать, находятся в какой-то прострации полнейшей. Сейчас у меня все друзья, у которых дети вот-вот начинают поступать, они удивляются: говорят, ты что? У тебя же скоро экзамен, тебе же нужно вот это, вот это, вот это, он говорит: ну, я не знаю, для меня это слишком много, слишком большая нагрузка для меня учить столько предметов сразу. А пробоваться это надо всё-таки в разные вузы. Ну, в общем, разные...
Татьяна Склярова
— Кому надо?
Кира Лаврентьева
— Ну, сам ребёнок вроде как хочет, но как-то подготовка для него тяжела. И я это слышу не впервые, я это слышу несколько раз уже от родителей, и хорошие причём очень дети, но вот просто как-то не особо хочется напрягаться. Я вспоминаю просто, как я эти билеты учила, чтобы мне поступить в институт. И как-то вот всё это как-то не бьётся с нынешними подростками, но ни в коем случае не хочется уходить в разговоры, а вот мы были, а вот сейчас...
Татьяна Склярова
— Здесь важно определиться, вот вы сказали, что видите очень много подходов есть к тому, что как мы вообще воспринимаем подростковый возраст. И если говорить о реакции взрослого, да, то тоже не лишнее определить, что он думает о своём ребёнке, с которым он уже там 12 лет просуществовал. И вот здесь мы возвращаемся к тому, он ему доверяет глубинно? Вот за эти 12 лет он же уже успел с ним познакомиться? Или почему-то, по каким-то причинам он решил, что вот сейчас-то он ему максимально не доверяет? Это вопрос к взрослому, не к ребенку. Потом эти изменения, которые мы наблюдаем в физическом плане, то есть иногда дети вот в этом возрасте за лето меняются физически сантиметров на 15-20, да, внешне и так далее, и так далее. То есть если такой идёт бурный рост физический и внешне, то уж точно внутри тоже много что переставляется с места на место, и как бы идёт переключка реле, образно говоря, да. То есть дать возможность человеку меняться, мне кажется, это очень большой родительский подвиг, надо к нему готовиться и с уважением относиться и к этому времени, и к своему ребёнку, и к тому состоянию, которое он сейчас проживает, ему реально непросто. Вот мне очень нравится метафора Франсуазы Дольто, которую я сегодня уже упоминала. Она говорила: «Вы знаете, подростки — это как вот лангуст, его панцирь слезает, а новый ещё не нарос, потому что он физически вырос. Ему нужно забиться под какой-то камушек и там отлежаться».
Кира лаврентьева
— Это интересная мысль.
Татьяна Склярова
— А мы его выволакиваем оттуда и пытаемся ему объяснить, что его ждёт светлейшее будущее.
Кира Лаврентьева
— Татьяна Владимировна, а может ли в этом смысле быть мой пример про того старшеклассника, который, может быть, не очень сильно хочет напрягаться, некой защитой собственной психики? То есть родители, возможно, его очень правильно воспитали, и он просто не хочет уходить в невроз. Я об этом, кстати, думала.
Татьяна Склярова
— Именно. И у нас в книге тоже эти примеры есть о том, что вот в эти переходные периоды, когда ребенок взрослеет, когда меняется его статус, он поступил-таки в университет, и все, и слег, и лежит.
Кира Лаврентьева
— В астении полной.
Татьяна Склярова
— И потом родителям звонят из неврологического отделения и говорят: слушайте, какой хороший у вас мальчик, он пришел снимать напряжение к нам, в его возрасте мальчики в другое место идут снимать напряжение. Это реальная история, которая вот была, на наших глазах происходила.
Кира Лаврентьева
— Ничего себе.
Татьяна Склярова
— Поэтому возвращаемся к критериям здоровья детей.
Кира лаврентьева
— Да, не напрягаем своих детей.
Константин Мацан
— Не напрягаем, доверяем и слушаем программы на Радио ВЕРА о том, как это не просто, но интересно воспитывать детей.
Кира Лаврентьева
— Спасибо, напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», которое собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте clever-lab.pro. Напомню, что у нас в этом часе была Татьяна Владимировна Склярова, доктор педагогических наук, профессор, а у микрофонов были Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Интереснейший был разговор, огромное вам спасибо, Татьяна Владимировна. До будущих встреч на волнах Радио ВЕРА.
Константин Мацан
— Спасибо, до свидания.
Татьяна Склярова
— Спасибо, до свидания.
Все выпуски программы Пайдейя
Воскресенский собор (г. Тутаев, Ярославская область)

Древний город Тутаев под Ярославлем раскинулся на двух живописных берегах Волги, связанных между собою без моста паромным сообщением. Когда-то, ещё в 13 столетии, здесь было два поселения — город Борисоглебск на правом берегу реки, и Романов — на левом. В первой половине 19 века они объединились. Так возник город Романов-Борисоглебск, который в 1918 году был переименован в Тутаев. Сегодня Тутаев входит в Золотое кольцо России. В маленьком городке около восьмисот архитектурных памятников, среди них — десять старинных храмов. Главный, и один из самых древних — Воскресенский собор. Это его изобразил живописец Борис Кустодиев на известном полотне «Гуляние на Волге». И сегодня, совсем как на картине, зелёные маковки куполов собора поднимаются над правобережной, Борисоглебской стороной.
Здесь, на Борисоглебской стороне, по сути — центр города. Современный, шумный — офисы, торговые центры. Но чем ближе к собору, тем дальше отступает будничная суета. кругом — низенькие домики, больше похожие на сельские, чем на городские. Воскресенский собор стоит на возвышенности. Расписным теремом высится он над Волгой. Храм — памятник древнерусского зодчества, жемчужина ярославской архитектурной школы и один из ярких примеров затейливого и сложного стиля «русское узорочье» — с обилием орнамента и декоративных элементов.
Построен он во второй половине 17 столетия. Два этажа собора опоясаны галереей с арочными окнами. Храм богато украшен наружными росписями. Среди сюжетов — Христос с апостолами и Успение Пресвятой Богородицы. Расписывали храм снаружи и внутри тоже местные, ярославские мастера. Под сводами собора поистине монументальные сюжеты: Сотворение мира, Страшный суд, и, конечно же, Воскресение Христово. Уникальные фрески считаются вершиной ярославско-костромского иконописного стиля.
На втором этаже Воскресенского собора с весны и до осени находится чудотворная икона Спаса Всемилостивого, или Спаса Борисоглебского. Огромная — около трёх метров в высоту и ширину, самая большая в России. На зиму её спускают в нижний, отапливаемый храм. А дважды в год выносят из собора, чтобы с крестным ходом пронести чудотворный образ по обеим сторонам города. Через Волгу её переправляют на лодке. По преданию, икона приплыла в город по реке в начале 14 столетия и находилась в деревянном Борисоглебском храме, на месте которого позже и был возведён Воскресенский собор. В годы советской власти храм не закрывался и оставался одним из немногих действующих.
Воскресенский собор не хочется покидать. А когда уходишь из него, по дороге на пристань, храм ещё долго остаётся в поле зрения — он словно провожает, благословляя в путь.
Все выпуски программы ПроСтранствия
Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь (Пензенская область)

На юге Пензенской области, в двух километрах от города Сердобск, есть Сазань-гора с рукотворными пещерами. Подземелья эти принадлежат Казанской Алексиево-Сергиевой пустыни. Вырыли их иноки в восемнадцатом веке. Но тогда монастырь просуществовал недолго. После подавления восстания Емельяна Пугачева в 1775 году беглые мятежники попросили у иноков пристанища. Те по христианскому милосердию приютили вчерашних бунтовщиков, а карательные отряды правительственных войск беглецов выследили. Ворвались в пещеры и казнили всех, кто там находился — и преступников, и святых подвижников.
После этого обитель надолго опустела. Лишь в начале двадцатого века здесь вновь появились монахи. Сначала это был местный крестьянин Сила Жулин. Он принял монашеский постриг с именем Серафим, поселился в пещере отшельником и начал обустраивать храм под Сазань-горой.
Благое дело подхватил житель Сердобска Андрей Грузинцев. В народе его почитали как прозорливого старца. Вместе с Силой Жулиным Андрей по благословению Саратовского епископа Гермогена основал общежительный монастырь и развернул строительство. В 1905 году в овраге под горой появилась часовня в память рождения царевича Алексия Романова, а затем деревянный храм в честь Казанской иконы Божией Матери.
Спустя три года в обители действовало ещё две церкви — пещерная Никольская и отдельно стоящая каменная, с тремя престолами. Центральный был посвящён празднику Успения Пресвятой Богородицы, а боковые — святителю Алексию Московскому и преподобному Сергию Радонежскому. Пустынь с названием «Казанская Алексиево-Сергиевская» приписали к Саратовскому Спасо-Преображенскому монастырю.
Обитель под Сердобском разрасталась. К 1917 году на её территории проживало три десятка монахов. Нет сведений о том, как сложились жизни большинства из них после революции. Точно известно лишь то, что с приходом новой власти пустынь прекратила своё существование. К середине двадцатого века от монастырских построек почти ничего не осталось. В овраге под Сазань-горой устроили свалку. Вход в пещеры был засыпан и потерян.
Лишь предания хранили память о прежней славе здешних мест. В двадцать первом веке рукотворные пещеры в толще горы Сазань удалось найти. Православные расчистили овраг — сначала экскаваторами, затем вручную и построили на территории утраченной пустыни каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Первое богослужение в нём состоялось на Пасху 2005 года. Воссоздали верующие и пещерный Никольский храм. Сейчас он тоже действует.
Под Сазань-горой возобновилось монашеское поселение. Благодаря насельникам заброшенный овраг превратился в цветущий оазис. Здесь появились свои достопримечательности. Например, скульптура, которую изготовил уроженец Сердобска, московский художник Владимир Трулов. Это вылитый из металла клин журавлей, поднимающийся в небо. Символизирует души монахов, устремлённые к Богу!
Все выпуски программы ПроСтранствия
Предтеченский скит Оптиной пустыни

В Калужской области, в четырёх километрах от города Козельск, стоит на правом берегу реки Жиздры славный русский монастырь — Свято-Введенская Оптина пустынь. В девятнадцатом веке эта обитель служила, по словам священника Павла Флоренского, «духовным санаторием многих израненных душ». Здесь в беседах с мудрыми подвижниками — старцами, находили утешение люди всех сословий.
Традиции старчества зародились в монастырском скиту Иоанна Предтечи — недаром его называют сердцем Оптиной пустыни. Это особое место, расположенное неподалеку от монастыря в вековом лесу и предназначенное для уединённой молитвы. В начале девятнадцатого века первым поселился здесь отшельником схимонах Иоанникий. После его смерти по благословению святителя Филарета (Амфитеатрова) скит был обустроен. Руководили строительством Моисей и Антоний (Путиловы) — в будущем прославленные в лике преподобных оптинские старцы. Они своими руками рубили сосны, расчищая территорию. Из брёвен сложили храм во имя Иоанна Предтечи. Первое богослужение в нём состоялось в феврале 1822 года.
Скит сразу стал местом духовного окормления паломников. В сороковые годы девятнадцатого столетия сюда потянулась русская интеллигенция. Произошло это благодаря преподобному Макарию (Иванову) который активно занимался издательством. Он создал в Оптиной пустыни школу переводчиков духовной литературы. Благодаря этому русским читателям стали доступны творения величайших аскетов древности — Исаака Сирина, Иоанна Лествичника и Макария Великого.
Достойным учеником старца Макария стал преподобный Амвросий (Гренков). Именно его Фёдор Достоевский представил в образе старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Изобразил писатель в своём произведении и Предтеченский скит Оптиной пустыни. Он описал розовую кирпичную колоколенку над воротами, храм Иоанна Предтечи, окруженный цветами и домик, в котором старец принимал богомольцев.
Эта избушка сохранилась до наших дней, несмотря на многолетнее запустение в монастыре в годы советской власти. Уцелела и Предтеченская церковь, построенная при участии первых Оптинских старцев. Побывать здесь на богослужении можно четыре раза в году — в дни памяти Иоанна Предтечи и в понедельник Пасхальной недели. Все остальное время скит закрыт для паломников. Правила здесь строгие!
Все выпуски программы ПроСтранствия