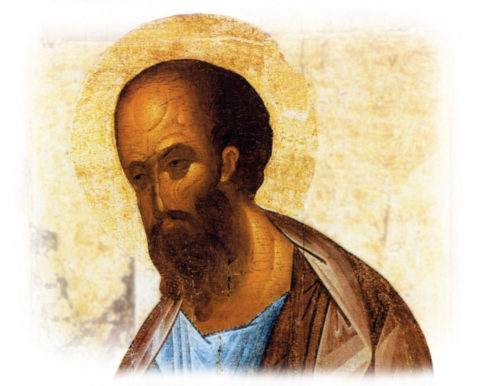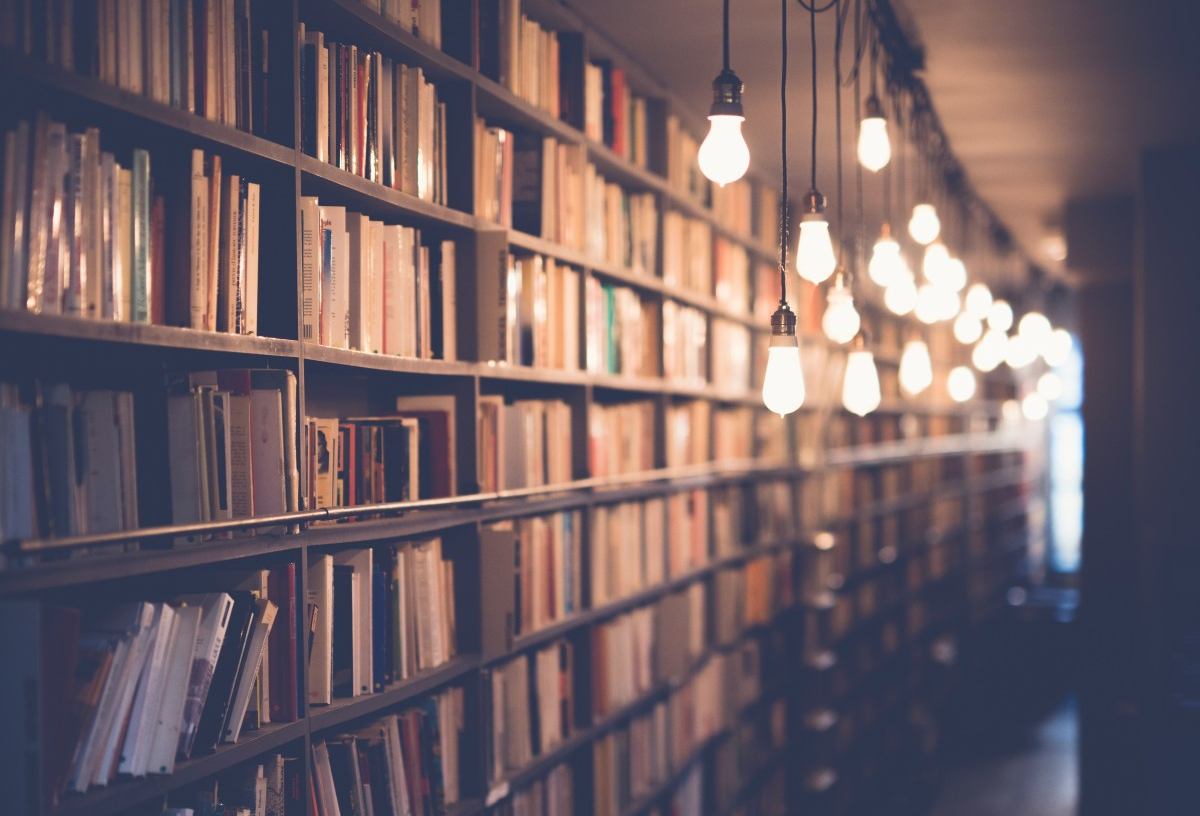
Гость программы — Игорь Чубаров, философ, доктор философских наук, проректор Тюменского государственного университета, директор «Школы метапредметных компетенций».
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии как таковой, зачем она нужна. У нас в гостях философ, доктор философских наук, проректор Тюменского университета, директор Школы метапредметных компетенций Игорь Михайлович Чубаров. Здравствуй, Игорь.
И. Чубаров
— Приветствую. Спасибо за приглашение, Алексей Павлович.
А. Козырев
— Ты не в первый раз у нас в «Философских ночах», я помню, у нас был очень интересный разговор о технологиях, о том, что технологии меняют в нашей жизни, как технология меняет нас, меняет человека, меняет душу. Сегодня мы все-таки к более нашему такому аутентичному вопросу обратимся: зачем нужна философия? Дело в том, что сейчас государство поставило нам задачу подготовки нового учебника по философии для естественных специальностей, потом, может быть, для гуманитарных специальностей, а потом, может быть, и для философов. Вот я знаю, что министр поручил тебе курировать этот проект, Тюменскому университету, и поэтому мне хочется разобраться, что сегодня думают наши ведущие философы о философии здесь и сейчас. То есть понятно, что у нас есть Платон, есть Аристотель, есть тысячи, наверное, определений философии, которые давали до нас выдающиеся мыслители, а вот сегодня, в нашей жизни философия — это что? Вот есть ещё теология — такая наука, она тоже сейчас преподается в вузах, есть православная теология. Некоторые говорят: «ну раз есть православная теология, то зачем философия? Философию, может быть, отменить, потому что православная теология, она даёт предельные знания о Боге, о мире». Вот как бы ты поспорил с этими людьми, если поспорил бы?
И. Чубаров
— Я в начале хотел сказать как раз об этом проекте, в котором мы участвуем оба, и вообще он в основном на базе как раз и философского факультета, и МГУ организован, то есть мы выполняем такой госзаказ по такой, не то чтобы реформе философского знания, но попытке приложить философское знание к сегодняшнему дню, к сегодняшней ситуации.
А. Козырев
— Ну каждые двадцать лет, даже в советское время, делался новый учебник, который был созвучен времени, созвучен каким-то запросам.
И. Чубаров
— Да, сейчас так много нового происходит в мире во всех смыслах, это и технологии, о которых мы в прошлый раз говорили, это и, по сути дела, новая геополитическая возможность, ситуация очень сильно требует вмешательства философской мысли, осмысления её. Ну и вообще, мы на фоне такого серьёзного изменения нашего образования находимся, мы отвечаем на те вызовы, которые идут и от природы, и от общества, у нас есть угроза пандемии, изменение климата, целый набор таких вызовов, на которые философы современные должны отвечать, потому что раньше ещё не было этого.
А. Козырев
— А тебе не кажется, что мы вот как бы всё время оправдываемся перед людьми, которые говорят: «А зачем ваша философия, вот для чего она нужна?» Причём говорят это и чиновники, говорят это и богословы, которые говорят: «Вот есть Священное Писание, есть догматы Церкви, есть катехизис, и зачем нужна ваша философия?» А мы оправдываемся. Может быть, надо перестать оправдываться и пойти в наступление?
И. Чубаров
— Да, так и есть. Меня очень радует в этом смысле, что и государство, и Министерство науки и образования, и аппарат президента, и вот эта программа «ДНК России» философию вовсе не вычёркивает, а специально подчёркивается, что она лежит в основе.
А. Козырев
— ДНК — это что такое? Это же не биологическое понятие, как это расшифровывается?
И. Чубаров
— Здесь речь идёт о некотором коде.
А. Козырев
— Духовно-нравственный код России, да? То есть вот именно так, чтобы не путали с биофаком?
И. Чубаров
— Аналогии здесь тоже уместны, но это вот именно то, что лежит в основе. И вот нам надо как раз это ДНК вытащить, выразить в философских, в том числе, терминах. И на мой взгляд, это очень интересная задача, вызов некоторый. Вот ты упомянул, что мы делаем сейчас учебник для естественников, для технарей, для айтишников, но на самом деле философия как раз в этой части для людей, которые занимаются вроде такими точными, естественными науками — математики, те же физики, химики, они без философии не смогут даже элементарную свою естественно-научную практику осуществить. Мы вытаскиваем методы, мы вытаскиваем именно то, что изначально, ещё в рамках целостного знания, и философского, и гуманитарного, и естественно-научного формировалось в течение двух с половиной тысячелетий как минимум в нашей европейской культуре, а в мировой даже и больше. То есть вот эти методы научного знания, по происхождению, по сегодняшнему своему состоянию, они все философские, поэтому нам оправдываться в чём-то и говорить о нашей полезности, как философов, не приходится. Другое дело, что это для нас только часть философского знания, у нас есть свой предмет, и мы, конечно, никогда этот предмет ни с кем разделить не можем, этот предмет — вся совокупность сущего, например. Этим никакая из естественных наук не занимается, все смотрят на реальность своих позиций, своих методов, а всё-таки философское знание универсально, и кроме того, оно очень сильно связано с нашей человеческой жизнью, мы не исключаем человека никогда из наших экспериментов, из наших исследований реальности, из наблюдений над ней, и экспериментов даже. То есть мы всегда вовлечены в эту практику, и поэтому для философии очень важно не утрачивать ещё свою специфику, вот мы никогда не разойдёмся по прикладным каким-то направлениям. И об этой специфике сегодня было бы интересно с тобой поговорить, потому что мы же с тобой вместе учились на философском факультете и продолжаем там работать, сотрудничать...
А. Козырев
— Учить чему-то и сами — учиться.
И. Чубаров
— Мне вот интересно как раз у тебя спросить, извини, что я задаю тебе ответный вопрос, но что было вот таким важным в жизни, что сделало этот жизненный выбор — заниматься философией, оставаться философом? В чём состоит вот этот наш выбор и наша жизнь в этой науке, как ты его считаешь?
А. Козырев
— Ну, я не знаю. Вот недавно я общался с пожилыми людьми, у нас есть такая программа «Московское долголетие», и мы читаем лекции о философии, об искусстве людям, которые ушли на пенсию, и которых правительство Москвы приглашает кого в кружок кройки и шитья, а кто выбирает — вот, пожалуйста, приходите в Московский университет, слушайте лекции. Я недавно читал лекцию о влиянии православия на русскую культуру, и вот после лекции ко мне подошла женщина пожилая и говорит: «Вы знаете, вы меня научили жизни, причём не на лекции, а отвечая на вопросы в конце. Вы сказали такую мысль, что человек создаётся не достаточным, не необходимым, а человек создаётся избыточным — и вот, видите, я купила телефон 1 терабайт, и теперь я могу фотографировать все слайды на всех лекциях, которые я слушаю на „Московском долголетии“. Я ни в чём себе не отказываю!» Меня это поразило, я вспомнил, что действительно говорил, и наверняка эта мысль не моя, а мною услышанная или прочитанная у какого-то мудрого человека, но что вот человек ни в чём себе не отказывает, фотографируя все слайды, то есть всё мудрое, что она увидит в презентациях, и что в этом для неё вот этот пир, эта роскошь духа, я подумал, что это очень здорово, потому что, во-первых, здорово, когда человек не упирается в потолок, когда дальше идти некуда, я уже всё в этой жизни сделал, осталось только собрать вещи и отправиться к Богу. А человек продолжает расти, вне зависимости от того, сколько ему лет, 60, может быть, 80, а может быть, 100. Вот недавно Аза-Алибековна Тахо-Годи, жена Алексея Фёдоровича Лосева, отметила 102 года, 102 года!
И. Чубаров
— Великая женщина, конечно.
А. Козырев
— И при этом она не теряет юмора, не теряет самообладания, не теряет желания слушать аудиокниги, постигать что-то новое. Вот, наверное, среди прочих задач философии, мне кажется, вот эта задача поддержания интереса человека к жизни и пробуждения его ото сна, работы сознания и самосознания, в этом, наверное, основная функция философии.
И. Чубаров
— Это ключевое, я согласен. Я выделил как раз вот этот предмет, такой объективный, связанный с миром в целом, с какими-то образами сущего, которые представляют какое-то единство для философии, конечно, первой философии — онтологии, учение о бытии — это важнейший предмет, никто больше такими вещами не занимается, различая бытие, возможность, потенциальное бытие, виртуальное, ничто и реальность, вот эти все вещи, эти наши ключевые понятия, они же потом в принципе реализуются. И в критерии различия действительности от чего-то только мыслимого или представляемого, фикции, реальности, это все в базе любой науки, поэтому нам, на самом деле, ни в чём оправдываться не стоит. Даже я бы сказал так, что сам вопрос: зачем что-то нужно? — он философский. Науки занимаются вопросами «как» и «что», они не задаются вопросом «зачем». «Зачем» — это вот целевая уже и смысловая позиция, она за философами.
А. Козырев
— У Аристотеля есть такая фраза: «Из всех наук философия — самая бесполезная, но лучше её нет ни одной».
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — философ, доктор философских наук, профессор, директор школы метапредметных компетенций Тюменского государственного университета Игорь Чубаров. Кстати сказать, метапредметные — это какие? Куда мы должны двигаться?
И. Чубаров
— Мы совершаем в Тюменском госуниверситете, в ряде ведущих вузов в стране такие опыты, эксперименты над тем, что необходимо современному молодому человеку, который поступает в вуз, кроме специальных направлений, той профессии, которую он в конечном счёте выберет, он должен научиться сам выбор осуществлять. Вот это, кстати, к философии имеет прямое отношение, потому что в философии есть очень важная область, связанная с понятием свободы, свободы воли.
А. Козырев
— То есть уметь делать выбор, уметь самостоятельно отвечать?
И. Чубаров
— Не только вот как родители отправили, или как рынок делает какой-то запрос и говорит: «вот сейчас востребованы те или иные профессии, давай туда», а чтобы ты сам выбрал. Ты же только что пришёл из школы, а школа, как известно, у нас не совсем выбору учит, это грамота, знания...
А. Козырев
— Ну, а о каком выборе идёт речь: выбор между марками телефонов или между фасонами пиджака в магазине, или это какой-то другой выбор?
И. Чубаров
— В условиях университета, конечно, это выбор, скорее, того, чему будет посвящена как минимум эта жизнь в университете, эти четыре или шесть важных лет, или даже больше. Это выбор между дисциплинами, между будущим, чем ты будешь заниматься: ты будешь заниматься технологиями, ты будешь заниматься педагогикой, это всё очень важные вопросы, часто они осуществляются просто случайно, кто что там сказал, подсказал, а вот научить самостоятельно выбирать, для этого надо учить, в принципе, прежде всего, философии той же. Поэтому у нас в метапредметы и компетенции входит, допустим, критическое мышление, системное мышление, уметь видеть мир в целом, с одной стороны, но понимать важность каждой части. И вот научить этому вообще очень сложно, в моей жизни, когда на я факультет пришёл, было два-три таких ярких преподавателя, они мне на всю жизнь запомнились.
А. Козырев
— Кто это?
И. Чубаров
— Они меня учили не просто истории и философии, а вот мыслить прямо, они были примером для меня в жизни. Я помню, Майоров, например, для меня был таким человеком, наш преподаватель с тобой общий. Я не хочу обижать коллектив преподавателей, многие из них ещё живы и преподают, очень ценные и важные, и каждый там чем-то знаменит, но для меня просто всегда это небольшое количество людей, которые на меня ещё лично повлияли таким примером. Философия — это же выбор не просто профессии, это выбор ещё какой-то ценностной ориентации, и вообще осознания своей какой-то ответственности за жизнь других, за свою собственную жизнь. Вот я сказал об онтологии, сейчас вторую часть, то есть, кроме макрокосма этого великого, есть ещё микрокосм — тоже уникальное существование человека каждого, когда ты осознаёшь это, что ты не то чтобы там единица какая-то или часть целого, а ты ещё и сам представляешь собой какую-то тайну, которая не может быть обобществлена. Вот как русский философ Густав Шпет, которым я занимался, говорил, что сводить человека просто к субъекту познания или трансцендентальному субъекту, как у Канта, это неверно. Кроме рассудочных таких, чисто естественно-научных способов познания и мышления есть ещё вот такие, очень редкие, связанные с разумом, с осознанием своей какой-то особой миссии в бытии, способностей, их надо вытащить.
А. Козырев
— То есть человек — это тоже вселенная, да?
И. Чубаров
— Да, вот такое соотношение известное микрокосма и макрокосма как раз раскрывается в философских штудиях, и этому и надо обучать в университете. Кроме того, конечно, туда входят технические вещи, связанные с аналитическим чтением, письмом, научить людей просто правильно заниматься сбором и анализом информации, это тоже метакомпетенция.
А. Козырев
-А вот был такой философ Блез Паскаль, у него есть пари, знаменитое пари Паскаля: выбор между конечным и бесконечным, то есть мы делаем ставку на бессмертие, на бесконечное бытие, и если мы сделаем ставку на конечное, мы можем сильно проиграть, потому что дерзновенно, конечно, делать ставку на бессмертие, но всё-таки мы можем получить больше, чем мы получим, исходя из этого мира. Вот такого рода выборы и вообще философия, она о конечном или о бесконечном?
И. Чубаров
— Мне кажется, всё-таки ввиду особой такой диалектики, она о том и другом. Философия не даёт однозначного ответа ни на один из своих фундаментальных вопросов, в этом её уязвимость некоторая и претензии, которые к ней часто со стороны естественного научного знания точного выдвигаются, они связаны с этим, что от философа нельзя добиться, в чём истина. Вот, например, теологическое знание в этом смысле, оно истиной обладает, и оно его может даже предъявить, причём в опыте, в церковной жизни, в практиках, в молитве, в вере, в каких-то проявлениях.
А. Козырев
— «Я есмь путь и истина, и жизнь», — говорит Христос. И вот истина предстала перед тобой, и всё, она живая. В философии, наверное, нет такой живой истины.
И. Чубаров
— Нет, она учит, скажем так, теориями истинным. В этом одновременно наш профессионализм, то есть мы не делаем выбора в пользу одного-единственного воплощения той или иной истины, но мы говорим, какие тут есть, может быть, заблуждения, искажения или какие-то сомнения. Вот в той же теории истины существует несколько подходов, я не буду сейчас их озвучивать, чтобы под вечер никого не грузить, но здесь важно вот эту шутку понять, что философ не учит истине, он учит теориям истины и различениям истинной лжи, вот это очень важно, это наша прямо миссия.
А. Козырев
— Ну, собственно, вот цитата из Диогена Лаэртского: «Философию „философией“, а себя „философом“ впервые стал называть Пифагор, когда спорил в Сикионе с Леонтом, тираном Сикиона (или Флеунта). Мудрецом же, по его словам, может быть, только Бог, а не человек, ибо преждевременно было бы философию называть мудростью, а упражняющегося в ней — мудрецом, как если бы он и заострил уже свой дух до предела, а философ любомудр. Это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости».
И. Чубаров
— Как красиво. Я тоже очень люблю эти цитаты, и вот там именно понятие любви очень уместное, она так хорошо говорит о философии, что в определении или в происхождении этого слова есть эта филия, любовь к мудрости, в смысле некоторое влечение, а лучше сказать, какое-то движение к мудрости. То есть мы мудростью ещё не обладаем, мы не столь мудры, что можем закончить это познание, познание где-то бесконечно. Вот в этом смысле, отвечая на предыдущий вопрос, чем занимается философия: она занимается и бесконечностью, и в познании оно нигде не ставит окончательную точку, потому что мир настолько грандиозен, настолько его замысел, в данном случае замысел Бога, или представление какой-то вселенной, настолько оно просто поражает воображение, что у нас, по сути, кроме отрицательных понятий, чтобы выразить это, и нет ничего, бесконечность, мир в целом, а что под этим мыслится. Но, с другой стороны, у нас есть наша конечная жизнь, и она осмыслена, и это тоже очень важно — понять и принять вот эту конечность, и найти в ней смысл, который есть в других людях, в любви к Богу, к миру. Вот в этих вещах проявляется как раз эта конечность, и соотношение между, как я сказал, бесконечным и конечным, и составляет, на мой взгляд, главный предмет философии, найти этот баланс.
А. Козырев
— Ну, это все равно, что спросить: смерть — это конец или это начало? Платон в «Федоне», в диалоге о смерти Сократа, писал, что «философия есть не что иное, как приуготовление к смерти». Потом, если я не ошибаюсь, святой Иоанн Дамаскин в своем «Источнике знаний» взял это определение, то есть это одно из представлений о философии уже в таком христианском ключе — приуготовление к смерти. А что такое смерть? Ну, наверное, для человека верующего смерть — это определенный рубеж, за которым что-то будет, этап. И вообще говоря, многие философы отнюдь не атеисты, они тоже рассматривают смерть, как определенную поверку, поверку счетчиков.
И. Чубаров
— Я вот, кстати, хотел про это сказать, что я на протяжении очень долгого периода, мне уже достаточно много лет, но я долго был таким агностиком, был достаточно скептичен в отношении вопросов, которые связывают на самом деле философию с теологией, с религией, с верой. И вот сейчас я только пришел к мысли, что эти связи, во-первых, неразрывны, они не исключительны, мы движемся все в направлении познания, в том числе и нашей собственной жизни, ее смысла и познания мира в целом. И в этом смысле можно на что обратить внимание, вот ты приводишь такие важные цитаты, а я что-то из более современной культуры приведу. Я вот смотрел сериал «Черное зеркало», и там некий персонаж был обречен на вечное существование в рамках какой-то цифровой матрицы, то есть он не мог ни умереть, ни осуществлять какую-то свою жизнь, он просто был заперт, как какой-то там цифровой двойник самого себя, и это настоящий ад. А вот бесконечность, настоящая бесконечная жизнь, она связана на самом деле с возможностью продолжать мышление, поиск. Чем вот мы можем заниматься в вечности, если предположить эту прекрасную возможность оказаться после Страшного Суда в ситуации, когда у тебя есть какой-то свой ещё проект дальнейший, какой-то бесконечный проект: только мышление, только продолжение думать о мудрости этого мира, его тайне, его загадках, и этому можно посвящать тысячелетия. А если это только удовлетворение, допустим, каких-то чувственных материальных потребностей, то для этого хватает и восьмидесяти лет. Вот мой папа умер в восемьдесят лет, и я понял: он достойно прожил. Он уже мне под конец говорил, что я, в принципе, всё более-менее познал, мне только хочется своих детей видеть и с ними находиться в контакте.
А. Козырев
— Я вспоминаю, как в 90-е годы, когда жизнь наша пошла вверх тормашками, многие стали задумываться о том, не заморозить ли себя, какой-то криофарм, заморозить, поймать на последних мгновениях жизни для того, чтобы потом где-нибудь там разморозить, и когда уже научатся давать бессмертие биологическое, продолжать жить, заниматься — чем? Да тем же самым, чем ты тут занимался — пил, получал наслаждения всевозможные. Ну, извини меня, может быть, это не стоит того, а если электричество там где-нибудь вырубили, рубильник, холодильник разморозился, и всё уже, у тебя шансов не осталось никаких. Может быть, стоит здесь поставить себе какие-то цели, которые следует реализовать?
И. Чубаров
— Согласен, всему своё время. С другой стороны, разумеется, у жизни и у чувственной сферы есть свой смысл как минимум в продолжении рода, в рождении детей, что очень важно. Продолжать вот этот замысел о том, что не всё на нас только зациклено, умрём мы там, не умрём, жизнь должна продолжаться. А что касается индивидуального существования, то здесь — да, наступает какой-то предел, дальше которого вот именно только дальнейшее размышление. И эта философия, она позволяет оставаться в тонусе, испытывать интерес к жизни, как возможности её дальше познавать. В этом смысле бесконечная жизнь для меня осмыслена, только если она посвящена познанию действительно таких предельных каких-то оснований существования, и вот если человек верующий, то Творца и замысла Бога о мире, и самому участия в каких-то творческих проектах, потому что вот это слово «проект» здесь не очень уместно, но это, скорее, о каких-то творческих задачах, в которых человек может соучаствовать с Богом.
А. Козырев
— У Метерлинка есть такая пьеса «Синяя птица», которая была визитной карточкой МХАТа, пока его не разрушили окончательно, и там не шла одна сцена, там не все сцены шли, вот некоторые для детей трудно адаптируются, и там была такая сцена, где неродившиеся дети, которые должны родиться, они вот где-то там в распределителе каком-то райском находятся, и они рождаются только тогда, когда они предлагают какой-то проект, вот они должны предложить проект, проект этот должен пройти определенную апробацию, и вот он с этим проектом выходит в мир, то есть его посылает Бог для того, чтобы он реализовал некую цель, которая уже предназначена им или им в сотрудничестве с Богом. Метерлинк — удивительный бельгийский писатель, он был всегда около христианства, он не был христианским писателем, но всё-таки он был, безусловно, религиозным писателем, и в той же «Синей птице», даже в знаменитых сценах МХАТа, где Тильтиль и Митиль отправляются в поисках Синей птицы к бабушке с дедушкой, отправляются к умершим, попадают в прошлое, попадают в дом, где их встречают радостно бабушка с дедушкой, которые уже умерли, и которые дарят им свою ласку — это же поразительно, да?
И. Чубаров
— Да, это прекрасное произведение.
А. Козырев
— Поэтому вот это проектное мышление, оно не только, мне кажется, в сегодняшнем меркантильном смысле, но здесь есть и что-то положительное.
И. Чубаров
— Да и вообще слов бояться не надо, я вот ещё об одной стороне философии хотел бы упомянуть. Всё-таки мы имеем дело с языком, мы имеем дело с нашими словами, с выражениями наших эмоций, чувств, нашего опыта, и философия занимается в том числе анализом языка. В каком-то смысле, я иногда шучу об этом, что философ, он до всех докапывается, он ко всему задает дополнительный вопрос: а что это значит? А это что значит? И вот этот ответ о значении и слов, и явлений, с которыми мы сталкиваемся, он должен быть получен, это функция философии.
А. Козырев
— Давай поговорим о языке после небольшой паузы, потому что у нас сегодня в эфире программы «Философские ночи» очень интересный собеседник, это философ Игорь Чубаров, и после небольшой паузы я с нетерпением жду, как мы вернёмся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, Радио ВЕРА в программе «Философские ночи».
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, проректор Тюменского университета, доктор философских наук Игорь Михайлович Чубаров. Мы говорим о философии, как она есть, что она значит для современного человека, что она может нам дать. Вот я где-то у славянофилов или у западников, уже не помню, но вспоминаю такую мысль, что к философии надо подготовиться, и если ты не готов еще, не можешь философствовать, не понимаешь смысл философских вопросов, философских терминов, то погрузись в искусство, займись искусством, и искусство как бы приготовит твою душу для восприятия философии. Вот эта мысль, она работает или не работает?
И. Чубаров
— Ну вот мы знаем, что как раз в русской культуре она работает на сто процентов, то есть мы больше известны в мире как культура, которая представлена именами Достоевского, Толстого, целым рядом художников, знаменитых композиторов, может, в меньшей степени философов, хотя это немножко обидно, но тем не менее это говорит о том, что у нас сама культура, художественная культура, очень нагружена философским содержанием. И, конечно, когда вспоминаем славянофилов, западников, наших первых философов таких светских, а потом переходим уже к Достоевскому, к Толстому, к Бердяеву, мы всегда понимаем, что это люди больше именно какие-то философы, художники, чем писатели. И можно сказать, есть даже такие фигуры, которые одновременно и философы, и какие-то прекрасные писатели, это феномен русской культуры.
А. Козырев
— Уж, по крайней мере, Соловьёв еще и прекрасный поэт.
И. Чубаров
— И вот есть такая особенность, что сама наша культура нагружена философскими смыслами, и мы из неё черпаем для себя и ценности, и какое-то понимание смысла жизни до сих пор. Разумеется, здесь совершенно нет никакого противоречия, наоборот, надо обращаться к искусству. Я вот философ литературы в каком-то смысле, и очень увлекаюсь и философией культуры, и философией живописи, разными видами культуры в этом проявлении художественном. И там я нахожу не просто подтверждение философских учений, которые я непосредственно у великих философов изучал, а ещё и развитие их, причём именно а области языка, которые философам не всегда доступны.
А. Козырев
— Искусство — это тоже язык, язык образов.
И. Чубаров
— И решение каких-то вопросов, которые, опять же, чисто спекулятивно часто не разрешимы, а вот в образах живописцев, образах архитекторов, литераторов, часто ответы ты находишь именно там. Для меня вот здесь как раз совершенно нет никакой проблемы, наша культура философична внутри себя, но она и художественная прежде всего.
А. Козырев
— Ну, способы отношения к миру в искусстве тоже ведь меняются со временем. Вот XX век дал нам кинематограф, дал нам фотографию, которая возникла в конце XIX века, но фотография, как жанр искусства, осмысления реальности, всё-таки это XX век. И здесь, наверное, тоже философия каким-то образом взаимодействует с этими видами искусства и пытается работать с ними, осмыслять, черпать что-то из них?
И. Чубаров
— Да, разумеется, я вот тоже, можно сказать, компетентен ещё, пожалуй, в философии медиа, в таком направлении современной философии, которая изучает не только язык, но и средства в репрезентации опыта, от радио и телевидения до современного интернета. И там очень много есть таких вещей, которые только философским анализом могут быть как-то осознаны и поняты, потому что это не просто средства передачи информации, не просто какие-то помощники наши в коммуникации — они сами что-то значат и о чём-то говорят. Вот сегодня как раз такой бурный рост именно всевозможных общений в мессенджерах, он задаёт новое понимание и любви, и отношений, и важно их удержать, не говорить, что там уже ничего невозможно, а важно вытащить там какую-то новую этику и вытащить какую-то новую философию из этого, потому что это настолько уже сложные объекты, мы в прошлый раз об этом говорили, сами технологии настолько сложны, настолько они человеческим разумом опосредованы, математикой, развитием науки, что нельзя сказать, что там философии никакой нет, она включена туда, внедрена, надо её просто правильно понимать и использовать очень разумно, этично. Вот это такое направление философии, которое связано с этикой искусственного интеллекта и сейчас очень важно, с развитием этих технологий, не потерять человека, понять эти технологии как продолжение человека и как самопонимание его, но ограниченное пока очень такими частными задачами: распознание лиц, распознание речи, перевод, но это тоже неотъемлемо от человеческой жизни, судьбы, культуры, поэтому я в данном случае пытаюсь в философском своём подходе совместить и такие техно-оптимистические нотки, и критические.
А. Козырев
— Но всё равно, я вот недавно спросил чат в искусственном интеллекте, задал какой-то вопрос, получаю ответ, смотрю, что-то мне до боли знакомое и такое уже где-то читанное, открываю ссылку — оказывается, это моя статья, я об этом писал. Я хотел что-то больше узнать на эту тему, но искусственный интеллект отослал меня к моей публикации, размещенной в сети интернет — ну спасибо ему, по крайней мере, я убедился, что я существую.
И. Чубаров
— Замечательная история. Ну да, в каком-то смысле, получается, встретился со своим собственным зеркалом даже, это всё подтверждает идею, что это не что-то чуждое человечеству, просто нужно это правильно использовать.
А. Козырев
— А вот мир чувственного опыта, всегда философия немножко пренебрегала им, считала, что это нечто такое испорченное, искажённое, первичное, где мы не получаем истинного знания, и на самом деле то, что дано нам с помощью чувств, оно часто обманчиво, карандаш в стакане воды кажется преломленным, солнце кажется маленьким, поэтому такая традиционная установка философии: не доверять чувствам. А что сегодня философия может сказать о чувственности, о чувственном опыте, о переживании человека? Есть ли здесь какие-то априори, скажем так, в кантовском смысле, то есть то, что является общим для человека как такового?
И. Чубаров
— Ну да, чисто методологическом плане, конечно, это различие между чувственным и интеллектуальным таким вот, связанным с нашими ощущениями, чувствами и спекуляциями, имеется в виду — мыслительными конструкциями.
А. Козырев
— Отражение, «спекуляция» — это философский термин. Отражение в зеркале.
И. Чубаров
— Да-да. То есть в принципе этого разрыва уже как бы нет, то есть мы его преодолеваем, и связано это ещё с тем, что естественные науки, всё больше и больше взаимодействуя с философией, насыщаются этой спекуляцией, этими идеями, и они сами уже стали в каком-то смысле, вот та же физика — теологичной, философичной, и с другой стороны, сама философия всё больше движется в сторону всё-таки испытания мира, вот доступная нам ещё всё-таки, как людям, потому что в науке, конечно, говорить о таком непосредственном отношении к реальности уже почти невозможно, это только приборы, это только работа через посредника, а для человека, философичного такого, гуманитарного, всё-таки ещё остаётся возможность наблюдать небо над головой, как Кант говорил, вот две таких важных вещи: нравственный закон внутри и небо над головой, а небо — это же не объект физического исследования, это ещё представление какой-то своей включённости в мир, и это никакими приборами ты не получишь, я бы так ответил на этот вопрос, чувства становятся более ценными и для философии.
А. Козырев
— Поэтому у апостола Павла и возникает мечта о иной земле, ином небе, то есть некое превращение жизни человеческой в вечности связано с тем, что он приходит на иное небо, наверное, не в физическом смысле понимаемое, а небо метафизическое, он называет это небом, и землёй.
И. Чубаров
— Да, но я ещё хотел бы более такой научный даже вести разговор на эту тему, вот на факультете твоём философском МГУ есть замечательный Центр исследования сознания, коллеги ваши и прекрасные ребята, они занимаются такой темой отличия мозговой деятельности, связанной, в том числе, прежде всего, с чувственным, с материальным миром и сознательным. И сознание, которое, конечно, у человека есть, и мозг, они связаны между собой, в отличие от предыдущих этапов развития философии, где часто вот эти субстанции, протяжённые, как у Декарта, и мыслящие — разводились, был такой дуализм. А сейчас мы пытаемся понять, как мозг сам не просто производит какие-то психические реакции, а как он именно является основой для сознания, потому что это сейчас такой важнейший фронтир философских исследований, чтобы не сводить всё к биологии.
А. Козырев
— И не только мозг, но и человеческое тело, которое дает нам опыт, потому что у компьютера нет тела и у искусственного интеллекта нет тела, которое давало бы ему личный уникальный опыт восприятия действительности.
И. Чубаров
— Совершенно верно. Это и ответ на твой вопрос, насколько важны эти чувственные моменты связи с миром, ощущения его вот такого непосредственного, потому что без этого, по сути, и человека-то нет. Есть, действительно, искусственный разум тогда, а человек, видите, он такое сложное существо, и как дальше будут развиваться технологии, чтобы это всё как-то имитировать, мне даже трудно поверить, что когда-либо можно будет такого человека редуплицировать. Нет, всё-таки человек рождается в передаче от одного человека к другому, и в этом есть какая-то замечательная история, на самом деле, которая называется жизнью.
А. Козырев
— Вот у нас сейчас возникают 3D, 4D, 5D-кинотеатры, где уже не только всё объёмно, но уже тебя и трясёт, и капает откуда-то, и ветерок дует: не пытаемся ли мы создать какую-то искусственную реальность, искусственный мир, убегая из мира, который нам дан, из мира Божьего, условно говоря?
И. Чубаров
— Ну да, тут есть такой момент. Трудно, мир просто довольно серьёзная вещь, серьёзные испытания для человека, в мире не так-то просто жить. Мне кажется, вот эти попытки смоделировать что-то, симулировать, связаны иногда с таким эскапизмом человека, он как бы...
А. Козырев
— Бегством, да?
И. Чубаров
— Бегством каким-то, да, и в этом смысле можно это немножко критиковать. Но, с другой стороны, можно к этому отнестись просто как к моделированию самопонимания, тоже каким-то возможным в данном случае экспериментом, понимание, как вообще человек будет дальше развиваться.
А. Козырев
— Ну, эскапизм существовал и раньше, в каком-то смысле уход в монастырь — это тоже эскапизм, когда человек слишком остро переживает, что мир лежит во зле, и вот он уходит туда, где, ему кажется, все по законам Божьим устроено, где он будет 24 часа в сутки молиться, жить духовной жизнью. Потом, правда, оказывается, что и там тоже значительная составляющая вот этой обычной жизни — послушание, труд, сложные отношения с братией и с начальствующими. Но всё-таки вот это стремление к эскапизму, оно, наверное, было и в прежние времена.
И. Чубаров
— Было иначе заряжено, конечно, была какая-то цель ухода из мира в данном случае, а здесь часто, когда люди предпочитают уже только интернет-общение, общение в мессенджерах, полностью уходят в телефон, мы же видим это, я до сих пор наблюдаю с некоторым, не то чтобы испугом, но с такой иронией и удивлением, что сидят люди, общаются между собой вроде бы, при этом у них всегда телефоны в руках, они общаются, вроде даже рядом находясь, только через свои айфоны. Надо с этим что-то делать, конечно.
А. Козырев
— Такой цифровой монастырь без Бога.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — философ, доктор философских наук, проректор Тюменского университета Игорь Чубаров. Мы говорим сегодня о философии, как она есть. Вот Мераб Мамардашвили, такой известный философ советский, грузинский, говорил, что «философия — это сознание вслух». Ты, мне кажется, был знаком с Мерабом Константиновичем, успел его застать, какое впечатление?
И. Чубаров
— Ну, вообще, конечно, это были ауротичные люди, что называется.
А. Козырев
— Ауротичные — имеющие ауру?
И. Чубаров
— Ну да. То есть, когда ты к нему подходишь, всегда такое чувство, будто он там где-то в горах стоит. Еще, конечно, было уважение к этим, тогда редким философам, это сейчас уже достаточно большой и профессиональный появился коллектив, сообщество российских философов, тогда это были редкие отдельные персонажи позднесоветского времени. Вот его ученик Валерий Александрович Подоро́га был моим учителем. Я, в принципе, эту линию уважаю и люблю, хотя на сегодняшний день надо уже критически отнестись и к этому прошлому. Почему-то мне сейчас захотелось сказать об отношении Мераба Константиновича к любви как раз. Он различал любовь к истине и любовь к родине, вот я за это немножко его хочу покритиковать, хотя он, наверное, имел в виду Грузию, он имеет на это право, ради бога. Кстати, он умер в основном из-за переживаний, что происходило тогда перед его смертью с Грузией, но не будем в это углубляться. Что я хочу сказать: вот он противопоставлял любовь к истине и любовь к родине, а у нас сейчас стоит такая важнейшая задача, в том числе, перед философами — показать, что эти вещи не просто связаны, а что это во многом одно и то же, потому что истина, она располагается, в том числе, в той жизни, которую мы выстраиваем в нашей культуре, в нашей стране, среди наших людей. И любовь к родине в этом смысле — это стремление именно познать истину нашей особой культуры, нашего особого пути, которая не отделяется от мира, а наоборот, предлагает миру такое мирное существование, такой большой многополярный мир. Мне вот эти идеи очень близки.
А. Козырев
— То есть истина окрашена как-то национально?
И. Чубаров
— Ну, не то чтобы национально, скорее культурно, и здесь есть всегда своя специфика. Если сводить всё к какой-то глобализационной общей культуре потребления какого-то, этих образов голливудских, то мы теряем что-то очень важное. Люди, которые находятся внутри русского языка, например, очень это понимают.
А. Козырев
— Вспомню другого нашего учителя, Владимира Васильевича Миронова, который, в отличие от Мераба Мамардашвили, успел посидеть в твоём кресле, быть гостем нашей программы, сейчас его, к сожалению, уже нет с нами, он говорил, что «философия — это самосознание культуры», и в этом плане культура действительно носит какой-то национальный аспект. Я помню слова, что дети скоро хорошо будут знать, кто такой Микки Маус, но не будут знать, кто такая Баба Яга, потому что на рюкзаках, на обложках дневников эти символы глобальной культуры, особенно это было до ковида, он ушёл из жизни как раз в 2020 году, когда началась пандемия, тогда действительно мы как-то были больше ориентированы на это потребление глобальной культуры.
И. Чубаров
— Вот я хотел закончить насчёт Мераба Константиновича, при всём уважении к его чисто философским трудам, нельзя не упомянуть вот этого момента, просто посмотрите ролики в сети, когда он говорит о том, что любовь к истине предполагает какую-то вполне определённую такую теорию социально-экономическую, а именно англо-американской демократии, вот что он противопоставил любви к родине в таком более, скажем, традиционном смысле, и это довольно сомнительно, то есть он был таким вот ориентированным именно на западные ценности в этом смысле, и это было, наверное, где-то понятно для 90-х годов, когда мы недавно совсем вышли из советского периода, где тоже были утрачены очень важные основания русской культуры. Сейчас, на новом этапе, мы понимаем, что мы можем предложить миру какой-то довольно интересный универсальный сценарий развития, который будет противостоять вот этим, довольно-таки колониальным, и очень несправедливым историям про капитализм, про развитие вот этой самой неолиберальной концепции мира. Вот это одна из задач философов сейчас — разобраться с этими ценностными ориентирами, даже иногда поправляя и критикуя своих предшествующих учителей.
А. Козырев
— У Алексея Фёдоровича Лосева есть повесть «Жизнь», где он говорит, что философия, которая не знает чувства Родины, не знает чувства родного — это плохая философия, что это не менее важное понятие философское — понятие родного, чем понятие абсолютного, потому что всё это диалектически связано, как говорил Вячеслав Иванов, один из учителей Лосева, родное и вселенское. Вселенское мы находим именно в родном, а не в каком-то безвоздушном таком, космическом.
И. Чубаров
— И это основа, кстати, и патриотического воспитания, и вообще воспитания как части образовательного процесса в университете. Я хотел бы вот к этим метапредметным компетенциям ещё вернуться, это ещё чувство Родины, причём не только через культуру, не только через кино, а вообще через других людей, которые тебя окружают, научить людей не просто, как говорится, «родину любить» в ироничном смысле, а увидеть в других людях самих себя, какое-то будущее, которое нас всех объединяет. Надеюсь, эта цель совершенно философская, никто с этим спорить не будет.
А. Козырев
— Кстати, твоя малая родина — это Смоленская земля, да?
И. Чубаров
— Знаешь, я родился в Курске, мои родители туда уехали учиться в вуз, потом вернулись в Смоленск, и я жил в Смоленске, когда учился в школе, но для меня Курск — это моя Родина, и вот сейчас, когда я наблюдаю те события, которые связаны с Курской областью, для меня всё ясно здесь: если на твою страну нападают, то здесь ты делаешь однозначный выбор, там мои родители живут, родственники, ну на какой ты можешь быть стороне?
А. Козырев
— А в Курске ты как-то вот в детстве чувствовал, что будешь философом? То есть вот такое советское детство, оно связано с какими-то интеллектуальными переживаниями, или трудно было выпрыгнуть из себя?
И. Чубаров
— В рамках нашего сегодняшнего разговора, тех тем, которые мы подняли, конечно, через сказки русские, через русскую литературу, которую я довольно рано начал осваивать, такой ранний период, когда Достоевского начинаешь читать в двенадцать лет, это даже рановато, но тем не менее, я начал пропитываться этими вопросами про слезинку ребёнка, какие-то образы в меня вошли, и я потом начал искать ответы уже в более теоретических работах философов немецких и вообще мировых философов, но, безусловно, влияние и выбор обусловлен очень глубокой интеллектуальной нашей литературой русской. А потом, я прочёл «Жизнь Иисуса» Гегеля. Ты представляешь, Алексей, как связано это с нашей передачей?
А. Козырев
— Ренана или Гегеля?
И. Чубаров
-Именно Гегеля. И меня, я помню, ребёнка ещё, поразило, настолько вот эта культура советская, в которой я вырос, была атеистичной, даже сам факт названия работы, одной из ранних работ Гегеля, как известно, «Жизнь Иисуса» меня потряс своей необыкновенной ясностью, каким-то месседжем, что это был реальный человек, что у него была своя биография, не только связанная с Библией, а что этим можно заниматься философски. Это вот сделало меня, на самом деле, я считаю, что в этой замечательной твоей программе надо об этом сказать, что разум и вера — это не просто связанные вещи, а одно без другого просто не существует. Как-то вот недостаточно быть только верующим, на мой взгляд, надо знать, надо понимать истину этого.
А. Козырев
— Разумная вера.
И. Чубаров
— Ну и разум, отрываясь от надежды, от веры, от понимания вот этой тайны мира, бытия, рождения, он превращается просто в инструмент, и может быть заменён на искусственный, вот такой у меня вывод.
А. Козырев
— А Курская земля же — это Курская Коренная икона Божьей Матери, это родина преподобного Серафима Саровского, ну и, конечно, там неподалёку жил такой, можно сказать, русский немец, у него были корни — Афанасий Фет, Шинши́н, по его первой фамилии, но поскольку он был незаконнорожденный, он взял фамилию Фет. И он переводил Шопенгауэра, он переводил философов, и, можно сказать, классика философского перевода — это его перевод труда «Мир, как воля и представление», не только тончайший лирик и певец природы русской, но и человек, который был очень погружён в философию. Это такие удивительные курские люди.
И. Чубаров
— Благодарен тебе за упоминание. Я, к сожалению, так глубоко не знаю своих знаменитых соотечественников.
А. Козырев
— Георгий Свиридов — курянин, Фатеж, удивительные композиторы...
И. Чубаров
— Было бы прекрасно, если бы о нас когда-то наши потомки говорили и связывали это с каким-то конкретным местом, где мы родились, и прославили его, ради этого стоит жить, на самом деле. Я и не знал про Фета, надо же, мне прямо обидно.
А. Козырев
— Я был там в 10-е годы, когда там была мерзость запустения, была школа в его усадьбе, потом школу закрыли, это всё было почти разорено, и потом, я уж не знаю, помогло это или нет, но как-то во время встречи с Владимиром Ивановичем Толстым, директором Ясной Поляны, мы обратили внимание на то, что надо восстановить Воробьёвку, и Воробьёвка была восстановлена. Там сейчас музей, такой вот национальный заповедник, можно сказать, как Ясная Поляна, как Тарханы Лермонтовские, это такой замечательный центр, один из центров русской поэзии, русской культуры, вот эта фетовская Воробьёвка, где гостил Владимир Соловьёв, где они переводили «Энеиду» Вергилия. Ну, а кроме русских философов, на тебя кто оказал такое большое влияние? Ты сказал, Гегель, да? Вот я знаю, что ты Беньямином много занимался.
И. Чубаров
— Да-да, могу сказать об этом философе. Я очень люблю таких западных мыслителей, которые критиковали в том числе и западную цивилизацию. Мне вот довольно интересен в данном случае Вальтер Беньямин, он такой особый, очень уникальный и редкий философ, причём он не был академическим философом, хотя одну диссертацию защитил, но он оказал такое большое влияние, особенно на современную культуру, на медиа, что я его выбрал. В этом смысле я хотел сказать о своем отношении к истории философии, для меня это не как у Гегеля как раз, не то чтобы это какая-то линейная история разворачивания и какой-то эволюции или развития идей, а это очень отдельные редкие философы, которых я собираю, можно сказать, как коллекцию своих любимчиков. И вот Беньямин для меня в данном случае очень интересный коммуникатор, то есть через обращение к его работам можно общаться с какими-то людьми из разных культур, из разных времён, из разных поколений, потому что он очень открыт для какого-то современного даже общения, очень хорошо и тонко понимал модерн, критиковал эту культурную парадигму. В этом смысле он очень был интересный именно как философ, который не привязывался только к одному какому-то учению, а пытался искать себя в разных областях.
А. Козырев
— Переводил, ты его, по-моему, да?
И. Чубаров
— Я перевожу его тексты, связанные с темой критики насилия, например, у него есть очень много интересных работ, в данном случае Беньямин для меня ценен именно тем, что он не принадлежал только немецкой культуре, он был еврейской национальности, но при этом был таким человеком мира, прекрасно знал французский, переводил Бодлера, приезжал в Россию, в Москву, был влюблён в латышскую девушку и сохранил это своё чувство на всю свою жизнь. В этом смысле он — наш человек, можно сказать.
А. Козырев
— Ну вот мы видим, что философия — это такой диалог, она учит диалогу, причём не только разговору, как мы сидим с Игорем Михайловичем, разговариваем, а разговору сквозь века, где собеседником может стать человек и прошлого поколения, и глубокой древности, который уже не сядет с нами в радиорубке, но тем не менее с которым мы можем поговорить, задать ему вопросы и иногда найти какие-то пронзительные ответы на свои собственные сомнения, метания, вопрошания, в том числе и в общем понимании мироздания и вере.
И. Чубаров
— Я так именно историю и понимаю, вот как ты предлагаешь посмотреть на мироздание, история — это для меня не просто прошедшие события, а это что-то, что осталось неразрешённым, что требует нашего участия. В этом смысле даже история философии — это очень важный предмет, то есть это не просто рассказ про то, что было, а что продолжает быть актуальным и важным на сегодняшний день, потому что очень много, уже 2500 лет мы обращаемся к Аристотелю, к Платону, к этим великим философам, это говорит о том, что там сохраняются ещё вопросы, на которые ответы ещё не получены, в этом сила философии.
А. Козырев
— Ну что ж, спасибо тебе большое за разговор. Я очень надеюсь, что учебник, который будет написан, он тоже будет учить добру, учить тому, что будет полезно даже для людей далёких от философии, и люди прочтут его и скажут: вот, оказывается, философия — это то, чего нам не хватало, то, без чего мы жить больше не будем, будем всегда интересоваться, обращаться.
И. Чубаров
— И мы не сказали, ведь это целый коллектив пишет.
А. Козырев
— Целый коллектив, да. И, конечно, прочтя этот учебник, они будут потом настраиваться на волну Радио ВЕРА и слушать наши диалоги в программе «Философские ночи», которая выходит еженедельно. Спасибо большое.
И. Чубаров
— Спасибо.
А. Козырев
— С вами были Алексей Козырев и Игорь Чубаров. До новых встреч в эфире Светлого радио, Радио ВЕРА.
Все выпуски программы Философские ночи
Под нежностью пледа. Алёна Боголюбова

Недавно мой супруг уехал в командировку. На две недели. Для нас — это очень долгое расставание. Вечером я так же, как мы обычно делали с мужем, налила чай, села на диван и включала добрый фильмы. Но в этот вечер не было уютно. Я почувствовала грусть и прохладу.
Ну, грусть — понятно откуда. Я скучаю по любимому человеку. Мне не для кого приготовить ужин, принести чай с джемом или горячий шоколад, как он любит. А вот прохлада... Почему я чувствую прохладу? Ах да... Муж всегда, когда мы усаживались на диван перед телевизором, укутывал меня пледом. Это было так привычно! Я перестала замечать маленький трогательный жест, это проявление любви и заботы.
Можно укутаться в плед и самой. Но этот процесс будет иным. Ты, скорее, накинешь плед, как куртку, стоя. Потом сядешь или ляжешь. А затем я еще долго подтыкаю плед под себя. Все время кажется, что где-то есть щелочки, в них поддувает. Тянусь поправить, плед вылезает с другой стороны.
А вот когда укрывает близкий человек с заботой, плед всегда меня очень комфортно окутывает. Муж еще поправит, как я попрошу. Такое милое домашнее внимание.
И вспомнилось мне, как однажды была на репетиции спектакля. Режиссер придумал сцену, где молодые люди в приемном отделении больницы ждут результатов обследования мамы. Молодой человек должен был укутать девушку пледом. Реквизитор принесла сложенный плед. И актер прямо так и положил этот свернутый плед на плечи девушке.
Он не знал, как это сделать — укутать человека. И смог это исполнить лишь тогда, когда режиссер сам поднялся на сцену и показал, как правильно укрыть человека пледом.
Оказалось, такой обычное действие не всем известно, не всем понятно.
Святой апостол Павел в послании к Римлянам говорит: «будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Все должны относиться с нежностью друг к другу. Нежность — это так тонко, едва заметно. И проявляется она часто вот в таких трогательных мелочах. И как дорого сердцу, когда в семье эти мелочи становятся нормой.
Через 2 недели вернулся мой муж. Я приготовила ужин — его любимую запеченную рыбу. А после трапезы мы пошли смотреть фотографии из его поездки. Супруг взял плед и укутал меня. И я с особым чувством сказал ему: «Спасибо, любимый! Это так приятно!»
Автор: Алёна Боголюбова
Все выпуски программы Частное мнение
Обидеть и не забыть. Алёна Боголюбова

Однажды на проповеди священник рассказал пронзительную историю, которая меня очень тронула.
Один пожилой монах, готовясь к переходу в вечность, молился, чтобы Господь открыл ему грехи, о которых он забыл. И пошел как-то вечером к колодцу за водой. А устройство поднятия воды там было мудрёное, крутилось на велосипедном колесе со спицами. И вдруг одна из спиц срывается и втыкается старцу в глаз, остановившись буквально в миллиметре от зрачка.
И вспомнил монах, как в детстве забавлялся с котенком и тыкал ему в глаз спицей. Так, попугать. А Господь показал, что грех это был. Нельзя животных обижать.
Я вышла из храма и потом еще долго оставалась под впечатлением. Монах ведь, казалось бы, не причинил котенку вреда, так по-детски играл с ним. Но жестоко играл, пугал. И забыл.
Так же и с людьми, бывает, пошутим, разыграем, что-то скажем, не задумываясь. А это ранит. Не тело, душу другого человека. И самое страшное, что мы это забываем.
Есть такой афоризм: «Всем, кого обидел, всё прощаю». А ведь не смешно. Как внимательно нужно относиться к чувствам других людей. Как важно не уходить из общения, не зная, какой след в душе ближнего ты оставил.
Мне кажется, жить, не раня других, можно только, прося у Бога научиться любви. Изначально любовь должна быть в сердце, а не жестокость и не равнодушие! И дай, Господи мне, как тому монаху, вспомнить все плохое, что я совершила. И покаяться.
Автор: Алёна Боголюбова
Все выпуски программы Частное мнение
Немного о себе. Алёна Боголюбова

Когда пишу какие-то рассказы из жизни, замечаю, что при редактировании приходится удалять из текста очень много слов. Почти одинаковых слов. Знаете, каких? Перечислю: «Я, мне, меня».
Они, порой, по два три в одном предложении попадаются. И я задумалась, что же это за напасть такая? Ни одно другое слово не повторяется так часто!
Стала обсуждать это со знакомыми. И коллега истолковала ситуацию следующим образом: «Это — нормально! Человек воспринимает мир относительно себя. И транслирует себя в мир. Это — так называемый, здоровый эгоизм».
Я в чем-то с ней согласилась. Действительно, когда мы видим, например, что человеку больно, мы можем это понять, только вспомнив собственную боль. Представление о тех или иных явлениях — плод нашего личного опыта.
Но хорошо, когда все это помогает нам понять ближнего, а не просто транслировать себя миру. И ещё важно понимать, что и другие так же осознают мир лишь через собственный опыт. И он у нас может быть очень разным. Предположу, что одно и то же явление мы можем осознавать по-разному, наполнять разными смыслами. Отсюда — сложность в коммуникации. Иногда она доходит до конфликтов и даже тупиков в отношениях, особенно, когда и слышать друг друга не умеем.
Но христианам доступно не только то, что естественно, но и сверхъестественное. Где Господь хочет, нарушается естества чин.
Для христианина, на мой взгляд, в центре системы координат — Христос, а не собственное «Я». Тогда появляется возможность видишь окружающих. И видеть в них Христа. А чем ближе мы к Богу, тем ближе становимся друг ко другу.
Глядя на Господа, на абсолютную любовь, и сами учимся любить, согреваемся, умягчаемся.
Кстати, сколько раз в рассказе о себе у меня встречается слово «Бог»? Тоже важный вопрос, о котором стоит подумать!
Автор: Алёна Боголюбова
Все выпуски программы Частное мнение