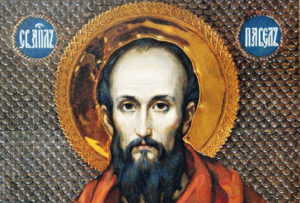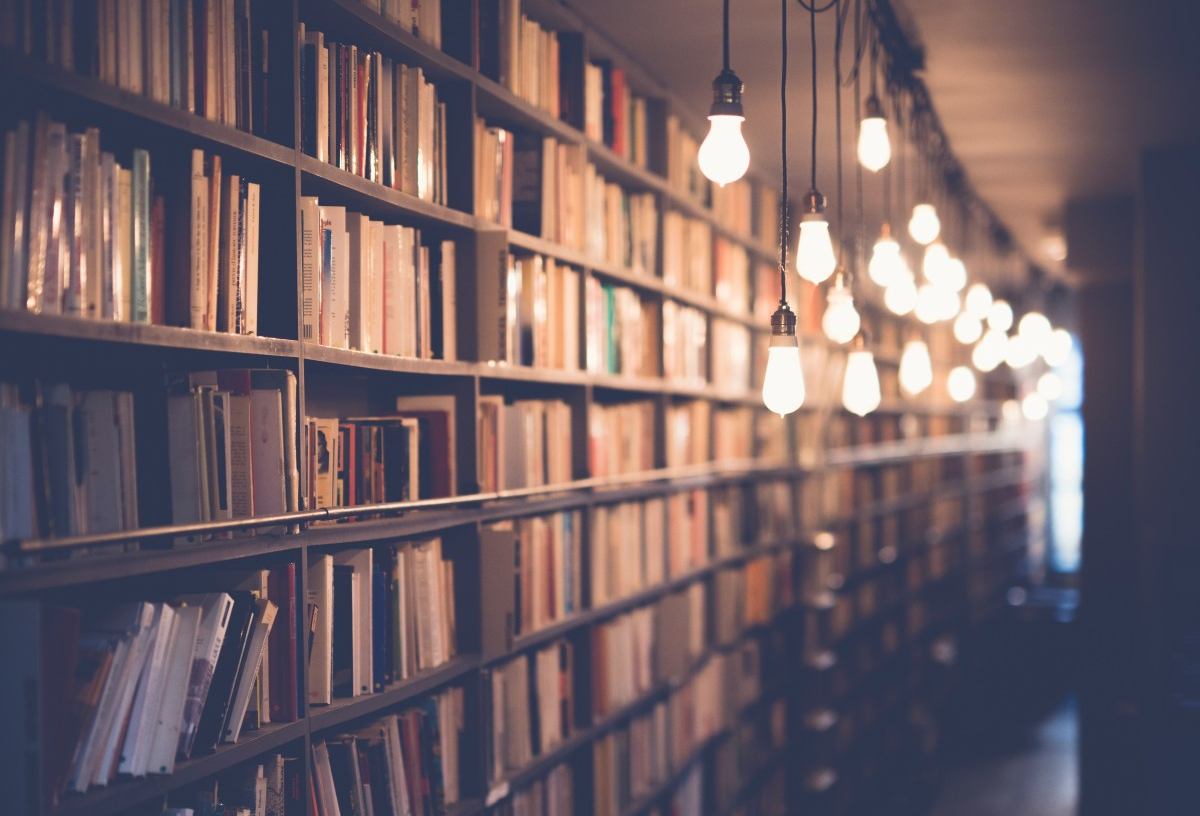
Гость программы — филолог, музыкальный критик, литературовед Михаил Пащенко.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о творцах и исполнителях. У нас в гостях филолог, музыкальный критик, литературовед Михаил Викторович Пащенко. Здравствуйте, Михаил.
М. Пащенко
— Добрый вечер.
А. Козырев
— У нас с вами не первая передача в «Философских ночах», я помню, мы говорили о Римском-Корсакове, о «Китеже», говорили об исполнительском искусстве Елены Васильевны Образцовой, и вот пришел год, когда встречаются юбилеи снова: 180 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова, великого русского композитора, и 85 лет со дня рождения Елены Васильевны Образцовой, великой русской певицы, которая не так давно ушла от нас, уже десять лет, и снова пришло время встретиться и сверить часы, что называется, и встретить этих замечательных людей, которые принадлежат к нашей великой русской культуре и, не побоюсь сказать, к нашему национальному культурному коду. Вот недавно вы выпустили совершенно потрясающую книгу «Оперный бал Елены Образцовой», это двухтомник, который издан при поддержке фонда Елены Васильевны Образцовой, который хранит ее архив, занимается популяризацией ее творчества. И мне бы хотелось сегодня поговорить об этих двух людях и, может быть, послушать даже, я знаю, что вы принесли в студию некоторые редкие записи, которые не каждый день сейчас звучат по радио. Я помню, когда был студентом, учился на философском факультете МГУ, это были 80-е годы, я постоянно ходил на концерты Елены Образцовой в Большой зал консерватории, в Колонный зал Дома Союзов, и это для меня был такой же университет, как и лекция на Воробьевых, тогда Ленинских горах. Вот Елена Образцова, она исполнитель или творец? Как вот эти понятия соотнести друг с другом? То есть мы привыкли, что есть великие, есть Римский-Корсаков — безусловно, его нельзя назвать исполнителем, он остался как композитор.
М. Пащенко
— Хотя дирижировал иногда ведь, выходил, мог продирижировать.
А. Козырев
— Ну вот видите, но вообще-то он морской офицер изначально, то есть все великие русские композиторы, они пришли откуда-то со стороны, Чайковский — юрист.
М. Пащенко
— Они самоучки причем, вот «Могучая кучка» — это, по-моему, беспрецедентный случай в истории музыки.
А. Козырев
— Ну если в тебя Господь что-то заронил, если дал тебе талант, и ты не закопал его, а взрастил и приумножил, вот мы и получаем великую плеяду. А вот исполнитель, он исполняет, он читает ноты, иногда выходит к зрителям с пюпитром, поет с листа, что, наверное, не очень хорошо. Вот Образцова, она исполнитель или она творец?
М. Пащенко
— Вот видите, сейчас уже, когда ее нет на свете, и она уже — часть истории, получается, что она не тот исполнитель, который пришел и ушел, вот кто-то же из исполнителей остается в памяти, хотя после них приходят другие, поют ту же самую музыку. И Образцова, естественно, сегодня это не просто исполнитель из прошлого, это символ, это и символ своей эпохи, а сегодня это и ориентир в профессии, потому что...
А. Козырев
— Образец?
М. Пащенко
— Таких нет. Всю жизнь она это отрабатывала, потому что тут надо сказать, что талант, даже исполнительский, это что-то такое всеобъемлющее, вот глядя на нее, мы это видим, когда человек так одарен, то тут же возникает и сознание того, как это было у нее, она всегда осознавала, что талант дан ей от Бога, и что она должна его отработать, и вся ее жизнь вот на этом и строилась.
А. Козырев
— Вообще-то она ведь блокадница, да? Она родилась в Ленинграде?
М. Пащенко
— Да, причем два годика, и у нее уже были воспоминания об этом времени, потом они выехали в Вологодскую область через Ладогу, и голод, все это в ее памяти. Я недавно был в Манеже Петербургском, там потрясающая выставка, посвященная блокаде Ленинграда, её попытались сделать с артефактами, с каким-то сценарием, пять героев, пять людей, которые из разных страт социальных, и ты еще раз переживаешь, какой это действительно был трагический, даже не эпизод, а просто трагическая эпоха нашей истории, и вот Елена Васильевна в самом своем младенчестве, она к этому была причастна, то есть, по сути, мы представляем себе певицу, как диву, которая купается в роскоши, которая нежится во всемирной славе, а она причастна вот этой национальной Голгофе, то есть, наверное, Господь что-то предусмотрел относительно нее, да?
М. Пащенко
— Я об этом уже и пишу теперь, поскольку я уже как историк, и можно такие вещи говорить, ведь она очень много проблем со здоровьем получила именно потому, что пережила вот этот тяжелый период, не только то переживание, которое ей хотелось выразить, выплеснуть, и которое дало заряд ее творчеству, но еще это было постоянное преодоление недомоганий всяческого рода, вот это удивительно. И, между прочим, уже в последние свои годы, когда Елена Васильевна занималась молодыми певцами, она сначала говорила, как она верит в молодежь, а потом сказала: «Нет, так, как мы, им уже не петь, они столько не пережили».
А. Козырев
— Вот интересно, почему-то именно те философы, которые были небезразличны к музыке: Шопенгауэр, Ницше, много писали о страдании, и сами страдали, Ницше был больной человек, и от болей в животе он страдал, в общем, действительно какие-то постоянные, непрекращающиеся боли, но при этом был композитор, писал романсы, писал фортепианные произведения, вот есть ли какая-то связь страданий и музыки?
М. Пащенко
— Такое впечатление, что художник, он страдает, даже если вокруг него всё благополучно, так вот.
А. Козырев
— Не должно быть хорошо, да?
М. Пащенко
— Оно не получается хорошо для этих людей, даже если они живут в материальном благополучии. Например, Вагнера я вспоминаю, в общем-то, жизнь его была неплоха, но его всё время несло вперёд, ему всё время всего было мало, и что происходило внутри, это даже страшно подумать, какие в нем громады переживания вселенского, это же за всю землю человек переживал.
А. Козырев
— Ну, Вагнер был музыкант-философ, Ницше был философ-музыкант, Шопенгауэр был просто философ, а вот Елена Васильевна Образцова — певица, она задавалась философскими вопросами, или она просто пела? Вот у неё была идея какой-то интерпретации интеллектуальной её героинь: Кармен, Любаши Римского-Корсакова, Адриены Лекуврёр, она проникала внутрь драматургической пружины образа или это по наитию, её музыка вела?
М. Пащенко
— Дело в том, что она была, как я её себе представляю, поскольку я работал над книгой и перекопал её огромнейший архив, и как-то считаю, что пообщался с ней, хотя и в своё время лично я с ней встречался как журналист, в общем, какое-то у меня есть представление, и она очень не любила интеллектуальных разговоров, но при этом это не значит, что она не была интеллектуалом, потому что, конечно, она была очень начитана и очень много думала, она это декларировала, говорила прямо: «интеллект определяет эмоцию», и всё это было. Другое дело, что она это практически никогда не выносила, ей нравилось всегда говорить и рассказывать о чём-то так, чтобы передать какой-то эмоциональный заряд, и так она говорила о своих героинях, о своих ролях, о музыке. Но философия — да, она заряжалась этим импульсом, потому что она считала, что без чтения нельзя быть интересным интерпретатором.
А. Козырев
— Мы поговорим ещё об этом. Давайте сейчас послушаем фрагмент из арии Любаши из «Царской невесты» Римского-Корсакова, это один из коронных образов Елены Васильевны Образцовой и, может быть, один из самых русских таких образов.
М. Пащенко
— «Песня Любаши выходная».
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — филолог, музыкальный критик, литературовед Михаил Пащенко. Ну вот есть такое понятие «эмоциональный интеллект» в психологии, может быть, это то, чем она действительно обладала, потому что мысль, если она не проходит через человеческое тело, через человеческую чувственность, она, наверное, относится к тому, что Кант называл «чистым разумом», то есть чистым, но чистым, как дистиллированная вода, которая, может быть, очень хорошая, но пить ее невкусно, согласны с этим?
М. Пащенко
— У музыкантов-исполнителей, мне кажется, наоборот, они все-таки исполняют чужой материал, и сначала у них идет просто реализация их музыкального таланта, их технических возможностей, а вот на выходе уже получается интерпретация и она уже зависит от интеллекта, подключает ли исполнитель интеллект или нет. А уж если мы говорим о певце, о вокалисте, то это просто работа тела, это абсолютно чувственное искусство, и даже у Образцовой где-то есть, когда он плохо себя чувствовала, она пишет: «Сегодня я вся дрожала, но зато пело все тело». То есть у певца начинается все с тела, с ощущения каких-то эмоций, идет выброс этой энергии в тембре голоса, который тоже очень чувственный, если он производит впечатление на зрителя, то обычно это чувственные обертоны, и голос Образцовой был очень чувственный.
А. Козырев
— А она пела церковные песнопения? Архипова пела, я помню, был диск даже записан.
М. Пащенко
— Да, у Архиповой это была программа, записанная в смоленском соборе, а у Образцовой это были эпизодические выступления, так получилось. Она пела «Литургию» Рахманинова из «Всенощной», потом «Жертву вечернюю» Чеснокова, это то, что оперные певцы поют обычно, это, скорее, концертный репертуар, чем богослужебный. И потом, у нее в поздние годы было еще выступление у митрополита Меркурия и там, по-моему, даже она исполняла какое-то новое сочинение. Но для нее это не было приоритетом в ее работе, и Владимир Николаевич Минин даже однажды покритиковал ее за то, что у нее нет достаточно времени, чтобы погрузиться в эту стихию, но тем не менее, я считаю, что хор из «Литургии» Рахманинова, он производит впечатление, где она сольную партию поет.
А. Козырев
— Я помню, слушал в трансляции ее юбилейный спектакль-концерт к 75-летию, когда она вышла на сцену, уже тяжело больная, страдающая, и спела только несколько музыкальных строк из арии Марфы из «Хованщины»: «Исходила младешенька все луга и болота», и это было настолько литургически сделано, это опера-мистерия, опера сакральная, в общем-то, — «Хованщина», и было видно, что это не певица, которая достойна всей мирской славы, а это вот старица старообрядская, которая, действительно, вышла на сцену. И я не знаю так близко, как вы, ее творческий путь, но у меня все время складывалось ощущение, что где-то рядом с подушкой у нее Библия лежала, наверное.
М. Пащенко
— Есть даже фотография, я ее в книге привел, она из итальянского журнала, где Образцова в строгом черном платье, с большим крестом, с совершенно серьезным, погруженным в себя взглядом, и единственное, не покрыта голова, но я тогда увидел в ней и назвал фотографию «Игумения в монастыре русской оперы».
А. Козырев
— Она была такая сильная, властная, что действительно, не сложно представить себе игумению.
М. Пащенко
— И очень устремленная в корни профессии, она всегда говорила: «не ради славы, а ради того, чтобы петь, приносить радость людям». У нее даже была идея лечить людей голосом. Когда-то я ее спросил: А вы не думаете, что ваш дар, он не совсем от вас?" — «Конечно, не от меня, — она сказала, — мы делаем только то, что хочет от нас Господь». И надо сказать, что она была, конечно, человек верующий, есть интересный эпизод, который я тоже в книге привожу: когда первый раз Елена Васильевна гастролировала в Лондоне, она побывала на приходе у митрополита Антония, и у них завязались такие теплые отношения, она там исповедовалась. И была такая интересная история: как мне передали, что она осталась ночевать на приходе перед исповедью, а утром владыка ее спрашивает: «Ну, как вы спали?» Она сказала: «Всю ночь не спала, думала». А владыка ей отвечает: «И я то же самое, и я не спал».
А. Козырев
— Потрясающая встреча такая.
М. Пащенко
— Они потом были в контакте, общались, каких-то деталей об этом нет, но Образцова рассказывала, что владыка научил ее молиться за врагов, и однажды, когда главный дирижер Большого театра тогдашний, с которым у нее были не самые гладкие отношения, ее это очень тяготило, и она стала за него молиться, и после этого в какой-то момент он стал ей улыбаться, начал с ней здороваться, и она тогда говорила: «Ну вот, конечно, владыка все сказал так, как есть, это все действует».
А. Козырев
— Это потрясающий пример, вообще-то говоря, этому нужно учиться, наверное.
М. Пащенко
— Да, она сказала, что он стал ей родным человеком, когда она за него стала молиться, вот удивительно, но при ее отдаче в каких-то делах можно легко себе представить, это же какая отдача, это энергетика была колоссальная, у нее не было выступлений рядовых, она всегда выходила на сцену и ей всегда было что сказать, и это из года в год, десятки лет, это, конечно, поразительно, публика сходила с ума от нее.
А. Козырев
— А вот ее репертуар, он же включал в себя и много народных песен, и романсов?
М. Пащенко
— Не так много народных.
А. Козырев
— Ну, Свиридов тоже можно сказать, он овеян какой-то народной мелодикой, да?
М. Пащенко
— Свиридов тоже очень разный, но так получилось, что Образцова, я думаю, первая среди оперных певцов начала петь, но она пела в основном не народные песни, а обработки композиторов, и она первая начала петь не оперным, а народным голосом, и искать такие краски, которых в оперном пении раньше, до нее, никто, конечно, не искал, все-таки оперные певцы пели очень академично, строго и так вся русская музыка, она вела народную песню к академическим высотам, к этой гладкости. Вот Римский-Корсаков, мы слышали песню Любаши, это спето оперно, а вот потом она начала петь, у нее это началось с песен Блантера, это единственное исключение, которое она сделала для эстрады, она спела семь цыганских песен Блантера, и тоже уже применяла вот этот народный звук, после чего перешла к Прокофьеву, а потом к Свиридову, к их обработкам народных песен.
А. Козырев
— А у кого она училась, у бабушек или у нее в семье кто-то пел?
М. Пащенко
— Семья у нее интеллигентная, но я думаю, что в деревне она много слышала пения и очень любила пение деревенских бабушек.
А. Козырев
— А ей доводилось пожить в деревне?
М. Пащенко
— Когда они были в эвакуации в Вологодской области.
А. Козырев
— Совсем маленькая, да?
М. Пащенко
— Да. Видимо, там было вот это пение. А потом, пели в России все, я думаю, не так было сложно услышать пение.
А. Козырев
— Пели все в том плане, что на застольях?
М. Пащенко
— И дома пели, при любых возможностях, как я слышал, выходили после трудового дня на улицу, собирались и затягивали.
А. Козырев
— А почему сейчас не поют?
М. Пащенко
— Как мне объяснила одна детский педагог: потому что слушают не мелодичную музыку дети, нет этой песни в окружении голосов.
А. Козырев
— А ведь, действительно, я вспоминаю, еще лет двадцать назад во дворах московских люди пели, пели хором, и далеко не только пьяными голосами, а иногда это были женщины такого уже среднего и старшего возраста, которые пели ансамблево, на многоголосье, сейчас мы этого не услышим, и пение за столом, застольные песни.
М. Пащенко
— Это ушло, да, культура вот этой песни, которая была.
А. Козырев
— А может быть, это и рождает какую-то общность переживаний, ценностей? Сегодня говорят: «ценности, ценности», а как вот научиться, как соотнести себя с этими ценностями? Человек, который приходит в церковь, даже если не поет в хоре, он поет «Отче наш» и «Символ веры» обязательно, выходит дьякон, начинает дирижировать, и весь мир поет во время литургии верных, обязательно, без этого нет литургии, то есть пение сообща, именно пение дает нам возможность превозмочь боль, страдание и пережить какие-то смыслы, какие-то ценности.
М. Пащенко
— Песня так и рождалась в свое время от общей судьбы людей и пелась всеми вместе, и даже советская еще песня, она уходила в народ, было это явление. Ну да, сейчас и песен-то нет, к сожалению, ну что ж делать, мы можем зато слушать записи, это очень большая отдушина.
А. Козырев
— Помню, что тоже, будучи городским человеком, я какие-то песни русские выучил с пластинок: Шаляпина, Собинова, Обухова, Максаковой, и потом, когда оказывался в каких-то ситуациях, где мне приходилось общаться с людьми, с бабушками, они знали эти песни, но они знали гораздо больше куплетов, чем то, что было, например, в «Последний нонешний денёчек».
М. Пащенко
— И была еще система радио советского, которое доходило до самых далеких мест страны, и поэтому по радио передавали вот этих всех певцов, которых вы назвали, и в том числе, Образцова тоже звучала постоянно, ее очень много передавали и в ее архиве огромное количество писем от слушателей, и, что совершенно поражает, что эти письма часто лучше гораздо, чем музыкальная критика. А когда Образцова спела программу русских песен и романсов с оркестром русских народных инструментов в 80-м году во время Олимпиады, это был такой легендарный концерт, после которого публика вышла на улицу и перекрыла уличное движение, потому что ждали ее, чтобы проводить до машины, и буквально весь зал стоял возле Колонного зала, машины там не могли ездить. И вот после того, как этот концерт прозвучал по радио и по телевидению, пошли такие письма от людей, которые писали: «Вы это у моей бабушки подслушали», или: «Вспоминаю, как пела крестьянка еще в 30-е годы перед приемной Калинина, которой, видимо, в чем-то отказали, и она села, и все свое горе выплескивала в песне», и Образцова, мол, спела также, как та бабка, вот так ей писали.
А. Козырев
— Давайте послушаем, что мы послушаем сейчас?
М. Пащенко
— «Катерина» Прокофьева, это запись из Будапешта, обработка русской народной песни.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — филолог, музыкальный критик Михаил Пащенко. Мы говорим сегодня о творцах и исполнителях, о Елене Васильевне Образцовой, которой в этом годы исполнилось бы 85 лет, и к этой дате приурочен выход потрясающей книги «Оперный бал Елены Образцовой». По сути, это двухтомная большая иллюстрированная биография певицы, можно сказать, наверное, каноническая биография, да?
М. Пащенко
— Безусловно, потому что вся работа вообще заняла пять лет, и два года я разбирал ее архив, и архив этот не самый простой, там нет каких-то готовых для публикации текстов, но ее биография, конечно, восстановлена полностью, и главное, что Образцова ведь и сама любила писать, очень хорошо могла написать.
А. Козырев
— А что она писала?
М. Пащенко
— Какие-то заметки дневниковые, воспоминания из детства, например, есть.
А. Козырев
— Вы это напечатали?
М. Пащенко
— Да, все, что из ее текстов такого вот интересного, все вошло, поэтому книга очень массивная получилась, но там столько вот этой потрясающей Образцовой, которая внушает нескончаемый оптимизм, как своим искусством, так и своей речью, своими взглядами, своими поступками, убеждениями, и столько оптимизма, и я считаю, что те, кто будут читать эту книгу, они зарядятся этой ее энергией, ее там очень много, и ее потрясающий творческий путь, он восстановлен во всех деталях, плюс, конечно, очень много фотографий, она ведь была и прекрасна, и к тому же любила фотографироваться, очень большой, фотоархив, все, конечно, невозможно уместить, но во всяком случае, хотелось оформить книгу так, чтобы рассказ о ней иллюстрировался фотографиями, относящимися к тому или иному моменту, о котором идет речь, поэтому издание, оно, конечно, всеобъемлющее.
А. Козырев
— Вот философы очень любят рассуждать на тему русской идеи, вот душа России — Бердяев, еще один юбиляр этого года, 150 лет со дня рождения, — можно ли сказать, что Елена Васильевна Образцова — это душа России?
М. Пащенко
— Так и есть, конечно, и она сама себя не представляла без России. Между прочим, могла эмигрировать, и не просто могла, а ее уговаривали, и при ее колоссальном успехе, у нее успех был совершенно беспрецедентный в Америке и в Европе, и за ней просто была охота, в Америке были предприняты усилия, чтобы она осталась, но об этом даже не шло речи.
А. Козырев
— 90 процентов, насколько я знаю, гонораров сдавали в фонд мира, или куда?
М. Пащенко
— Нет-нет, там не 90 процентов, там получалось так, что гонорар усекали до размера той ставки, которую певец получал здесь за концерт. Но да, это получается, что Образцова получала довольно высокие гонорары, и по ее раннему периоду есть документация в ее архиве, получалось, что когда она приехала в «Метрополитен-опера», то на руки она получала раз в десять меньше.
А. Козырев
— Ну обидно, действительно, творцу обидно, хочется получать, как все, как Монсеррат Кабалье, как Рената Скотто, но все-таки она не проявила этой обиды и не вильнула хвостом, как многие это сделали.
М. Пащенко
— Да, это, конечно, страшное испытание, потому что когда ты свои заработанные деньги вынужден сдавать, это больно, но вот, как ни странно, Образцова сказала где-то, что: «А я тогда думала, что поступала правильно».
А. Козырев
— Есть такая поговорка русская: «всех денег не заработаешь».
М. Пащенко
— Вот в ее смысле она не была зациклена на деньгах, ей было легче, а многие музыканты очень страдали.
А. Козырев
— Значит, было что-то еще. А вот когда мы говорим «душа России» — это что? Какие качества вы бы выделили, которые отличают душу России, например, от души Европы или от души Франции? Может быть, совсем необязательно положительные качества.
М. Пащенко
— Я спросил когда-то саму Елену Васильевну, как она понимает, что такое русская душа. Ответ был очень лаконичный: «утонченность и безбрежность». То есть масштаб, широта, величина, объем, и при этом эта, действительно, утонченность, чувствительность к самым высоким, таким трансцендентным вещам. Я думаю, она это имела в виду.
А. Козырев
— Духовные смыслы, конечно, относятся к таким вещам.
М. Пащенко
— Она все время говорила, что на Западе нас ценят за чистоту нашу, то, что несет артист. Кстати, та же Кармен, которую она пела, ей же хотелось показать Кармен, которая любит до конца. Не очень это, может быть, было возможно, потому что Кармен такая натура, но, во всяком случае, это была ее идея.
А. Козырев
— Но это Кармен образцовая.
М. Пащенко
— Да, но я когда спрашивал Доминго, который был одним из любимейших её партнеров в этой опере, верил ли он, что Кармен любит действительно Хосе до конца, он посмеялся и сказал, что «по опере, конечно, такого быть не может, но, наверное, она любила меня, как коллегу». (смеются)
А. Козырев
— Ну, это очень остроумный ответ, конечно.
М. Пащенко
— Да, любовь до конца, но во всяком случае, когда Образцова приехала на Запад, то, во-первых, сам масштаб голоса, такие голоса уже сходили большие, она была фактически одной из последних, и потом, конечно, тот заряд эмоций. Довольно странно читать рецензии французские, американские, там часто пишут о том, что «она развеяла скуку», «приехала и развеяла скуку», то есть им там было скучно, и вот приехала такая русская певица с совершенно огненным темпераментом, и они взбодрились. Один критик пишет: «Эта певица поднимает давление минимум на десять пунктов», то есть они все пребывали в апатии. Поэтому, кстати, в Америке ее довольно быстро и забыли, она перестала туда ездить, потому что началась блокада советских артистов в связи с начавшейся войной в Афганистане, и ее карьера там прервалась, а когда она уже в перестройку там оказалась, то выяснилось, что особо никто уже и не помнит, публика, наверное, помнила, но вот критики, это все уже, как говорится, сошло, все ее успехи, это как быстро нажито, так и прожито.
А. Козырев
— Ну, это их проблемы. А вот русская душа, которую она так замечательно определила, часто ее ищут и находят в музыке Свиридова Георгия Васильевича, вот как произошла встреча исполнителя и творца, или двух творцов, как здесь можно обозначить?
М. Пащенко
— О Свиридове говорила Образцова, что «мы такие разные, но нас свела любовь к Родине». И действительно, Свиридов — это Россия, причем вот именно та самая утонченная, потому что он же писал музыку на величайшую русскую поэзию XX века, Блок и Есенин — его главные поэты. И так получилось, что Образцова была допущена в его мастерскую, она стала первым исполнителем его произведений и Блоковского цикла, и Есенинской «Отчалившей Руси», это последняя поэма Свиридова, так получилось, что ноты были изданы, и она пела ее фактически не первой, но с автором она делала авторскую премьеру, он сделал для нее редакцию, это для мужского голоса было написано, и получилось, что вот этот Свиридовский Блок и Есенин — это их совместная работа, хотя, конечно, были и другие романсы, но я думаю, что в творчестве Свиридова она сыграла тоже очень большую роль, в том смысле, что вынесла вместе с ним его музыку на публику, что для него было чрезвычайно важно.
А. Козырев
— Я помню концерт, по-моему, это был год ее 60-летия, где она два отделения пела Свиридова в Большом зале консерватории, то есть на такое мало кто решался, даже большие поклонники Свиридова — Нестеренко, Чернов, они, как правило, пели отделение Свиридова.
М. Пащенко
— Авторские вечера Свиридова все-таки были и у Нестеренко, Чернов тоже пел, насколько я помню, и сам он, это было не так часто, но надо думать, что и сейчас, и вот в следующем году будет 110-летие Свиридова, и мы будем слушать авторские вечера его музыки, потому что это, конечно, музыка, которая музыка-поэзия, и она требует концентрации. Хотя сам Свиридов, кстати, радовался, когда Образцова делала одно отделение его музыки, а одно отделение музыки других композиторов.
А. Козырев
— Можно было сопоставить, да?
М. Пащенко
— Ему было это очень приятно, он ей писал, что «вы поёте меня с Чайковским и Рахманиновым, для меня это очень большая честь».
А. Козырев
— А вошел Свиридов в эту обойму великих русских композиторов: Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, как вам кажется?
М. Пащенко
— Думаю — да, вот узнаваемая интонация. Особенно я слышал тут одно новое произведение, и сразу чувствуется влияние Свиридова, действительно узнаваемая интонация.
А. Козырев
— Мне пришлось побывать на одной конференции в Париже, пообщаться с католиками, и философ, который занимается философией искусства и поёт в церковном хоре католическом, он мне сказал: «Да, мы поём Свиридова». То есть, оказывается, Свиридов не только наш национальный композитор, его духовная музыка вышла за пределы России, как, наверное, и вообще духовная, если это действительно духовная, «Реквием» Моцарта или «Торжественная месса» Бетховена, или Бах, это воспринимается не только внутри той нации, может быть, даже той религиозной конфессии, где это написано, но воспринимается и другими людьми, как некое откровение свыше.
М. Пащенко
— Да, конечно, духовная музыка Свиридова, я знаю, её исполняют и за границей, но он всё-таки для нас, скорее, более ценен, как тот композитор, который несёт русскую поэзию. Вот его «Пушкинский цикл», например, это же что-то потрясающее.
А. Козырев
— Вы имеете в виду пять романсов?
М. Пащенко
— Да, но там, кажется, шесть романсов.
А. Козырев
— Это ещё 30-е годы.
М. Пащенко
— Да-да, 30-е годы, это же очень раннее произведение, кто только его не пел. Но вот Образцова спела «Подъезжая под Ижоры...», мне кажется, вообще лучше неё это никто не поёт, вот эта радость, солнце, брызги какого-то вот этого света, она, конечно, умела передать. Но у Елены Васильевны главные были со Свиридовым конфликты: он не хотел, чтобы она пела народным голосом его народные песни, которые исполнялись и до неё, вот песня «Слеза», она её спела так, но Свиридов хотел, чтобы было всё академично, но ему не удалось с ней справиться, хотя он автор, и он ей играл, она выступала с ним, и она пела по-народному, и песня «Слеза» — это совершенно потрясающая интерпретация, никто из оперных певцов ещё не пел такими приёмами, не позволял себе такой свободы в красках на концертной сцене в Большом зале консерватории, в конце концов, Свиридов принял.
А. Козырев
— Ну что же, по-моему, это повод, чтобы послушать «Слезу»?
М. Пащенко
— Песня «Слеза».
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — филолог, музыкальный критик Михаил Пащенко. Мы говорим сегодня о творцах и исполнителях, и вспоминаем Елену Васильевну Образцову, героя канонической биографии «Оперный бал Елены Образцовой», которая вышла буквально в этом году, авторство нашего сегодняшнего гостя. И действительно, услышав «Слезу» Свиридова, мы понимаем, что это не просто исполнитель, это творец, такой же творец, который открывает совершенно потрясающие смыслы, которые, может быть, даже и автору кажутся странными, и он пытается как-то изменить вот это наитие, которое получает певица, когда она делает (может быть, не очень хорошее слово здесь), творит. Вот есть разница, наверное, между делать и творить. Делать — это что-то по шаблону, по лекалу, что-то привычное, устоявшееся, а творить — это как Бог, Он творит из ничего, то есть это непонятно откуда берется, так?
М. Пащенко
— Да, Образцова, конечно, тот пример творца, который, можно сказать, просыпался в исполнителе и преодолевал вот эти рамки, у нее ведь был очень такой волюнтаристский подход к авторскому тексту даже, ее за это часто ругали, потому что она могла что-то петь по-своему и ее нельзя было переубедить, и это, конечно, некоторые профессионалы воспринимали очень критично. Особенно это было, когда она пела Рахманинова, которого очень любила, и когда ей делали замечания, она говорила: «Сергей Васильевич мне бы разрешил». И также точно у нее складывались со Свиридовым отношения, но тут было проще с автором, и она имела возможность его лично убедить. Но главное, что ее выступление — это было такое событие, после которого публика приходила просто в какое-то неистовство, уходила из зала как на крыльях, и потом еще эхо ее выступления в душе звучало, может быть, неделю, может быть, две, мы сегодня совершенно уже забыли этот опыт, и вот сегодня приходишь в концертный зал, очень скучающая публика, которую еле-еле заставишь аплодировать. Боже мой, я вспоминаю, после спектакля Образцовой минут сорок ее могли вызывать, и выходили певцы, и кланялись, и кланялись, и публика не расходилась.
А. Козырев
— Это, наверное, просто старание удержать то переживание, которое возникло в момент исполнения, когда человек поймал, что называется, волну, да?
М. Пащенко
— Да, публика зажигалась, уже все закончилось, а люди не хотели уходить из театра, хотя уже там десять-одиннадцать часов вечера, «Царская невеста» после десяти заканчивалась, «Хованщина» до одиннадцати шла, это же все даже не вообразить сегодня, что люди до конца додерживают такие длинные оперы.
А. Козырев
— Ну, а вот если так, начистоту: опера, она не подменяет собой литургию, то есть не является ли она чем-то конкурирующим религиозному экстазу или религиозному переживанию? Хотя в храме мы тоже можем услышать оперное пение, иногда регенты приглашают оперных певцов, которые поют.
М. Пащенко
— Но вообще в храме петь по-оперному, это кажется, совсем неуместно, потому что это именно противоречит литургическому настроению, как мне кажется. Я знаю, что многие верующие люди не любят хоры, например, которые поют так, как хоры концертные, и я думаю, это справедливо. Все-таки петь в филармонии — это одно, а в храме — это другое. Но вообще, если брать Вагнера, то это как раз его теория, он-то вообще был такой теоретик, смелый, но он выводил вообще искусство музыки из церковного пения, из церкви, и он формально-то говорил о том, что античной музыки мы не знаем, какая она была, мы не знаем, а вот та музыка, которую мы имеем в нашей цивилизации, она вышла из храма, из богослужения, и так вот именно он и считал. Но думаю, подмены тут никакой быть не может, потому что пение и искусство, они вообще пошли изначально из целостности литургического действия, но потом они как бы пошли и стали жить своей жизнью.
А. Козырев
— Но тем не менее были певцы, вот не могу не вспомнить Бориса Тимофеевича Штоколова, который, по-моему, вообще западной музыки не пел.
М. Пащенко
— Дона Базилио он исполнял партию.
А. Козырев
— Ну, очень мало. В основном это был русский репертуар, то есть было какое-то ощущение, что вот он создан для того, чтобы жить и купаться в русской музыке, потому что как-то вытесали его вот так.
М. Пащенко
— Ну, потому что Штоколов — это самородок, голос необычайной красоты, он, может быть, не был рафинированно образован, он вышел, как говорится, из низов, он был рабочий и делал карьеру, потому что у него был от природы голос и потом, он оказался музыкален, и он оказался достоин занять ведущее положение в театре, потому что тогда ведь певцы оперные многие не имели образования и поступали в театр, потому что у них был голос, а дальше уже смотрели, справляются ли они с музыкальным текстом или нет, вот Штоколов был из таких, и таких было много. Но вот, например, Образцова она как раз была очень чувствительна к самым разным музыкальным стилям, и то, что она поет и русское народное, при этом совершенно поразительно доносила до нас какие-то вот запахи, атмосферу и французской музыки, и испанской, по-итальянски она пела великолепно, она очень много занималась в Италии, когда была там, очень много занималась стилем, работала над этим, и итальянцы говорили, что ее итальянский безупречен, поэтому тут другой склад просто, она была то, что называется всемирная отзывчивость.
А. Козырев
— Еще одна иллюстрация русской души, да? То, что Достоевский сказал в «Пушкинской речи» — всемирная отзывчивость.
М. Пащенко
— Конечно, сегодня скорее всего она нам нужна, может быть, как исполнительница русского репертуара, потому что она спела «Антологию русского романса!, и эти записи, которые были сделаны Всесоюзным радио с ее концертов, они ведь до сих пор не изданы.
А. Козырев
— Что мы послушаем в конце?
М. Пащенко
— Конечно же, «Русскую песню» Свиридова, её Образцова пела очень часто и это то, что можно слушать бесконечно.
А. Козырев
— Еще один замечательный пример того, как исполнитель становится творцом, и творцы, которые уже у Бога, которые в вечности, которые покинули нас, но которые остаются с нами своим искусством, своим даром, встречаются снова в эфире Радио ВЕРА, Светлого радио, в программе «Философские ночи».
М. Пащенко
— Спасибо.
Все выпуски программы Философские ночи
Послание к Евреям святого апостола Павла

«Апостол Павел». Рембрандт (1606–1669)
Евр., 308 зач., III, 5-11, 17-19.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.
Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.
В Священном Писании есть те сюжеты, которые являются крайне важными для понимания логики взаимодействия Бога с человеком. Один из таких сюжетов — это рассказ об исходе евреев из Египта. На первый взгляд может показаться, что история Исхода имеет локальное значение и важна только для потомков тех людей, которые три с половиной тысячи лет назад вышли из Египта. Если же мы будем внимательнее, то заметим, что Исход с последующим сорокалетним странствованием по пустыне определили развитие отношений Бога и человека на много поколений вперёд, и до сих пор верующие люди не могут не вспоминать об Исходе едва ли не каждый миг своей жизни, ведь именно Исход дал человечеству заповеди, а также научил нас смотреть на Бога не как на отстранённое, недостижимое и непостижимое сверхсущество, а как на близкого каждому человеку Владыку и Творца. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 3-й главы Послания апостола Павла к Евреям, в этом отрывке апостольские размышления строятся на воспоминаниях событий Исхода.
Глава 3.
5 И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить;
6 а Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
7 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его,
8 не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне,
9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок лет.
10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих;
11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.
17 На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?
18 Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных?
19 Итак видим, что они не могли войти за неверие.
Неудивительно, что апостольское Послание к Евреям свои размышления базирует на истории Исхода: адресаты послания прекрасно знали и о самих событиях Исхода, и об их богословском наполнении. Для христианского сознания очевидно, что Исход важен не сам по себе, он — прообраз Нового Завета, новых отношений Бога и человека. Исход для евреев также стал совершенно новым этапом в жизни народа, и именно он помог евреям осознать себя единой общностью, из разрозненных семей он создал народ с чёткими правилами жизни и с законами, данными Самим Богом.
Послание к Евреям придерживается всё той же линии: оно видит в Исходе не изолированное событие, а прообраз Нового Завета. Если Моисей лишь возвещал, то Христос — не служитель Божий, а Сам Бог, Он — Хозяин, и Хозяин не только созданного Им мира, Он Хозяин человека. И здесь апостольское послание использует невозможную для Ветхого Завета фразу: «Дом же Его — мы». Мы, то есть христиане, — дом Христов. Моисей лишь возвещал правила жизни в этом доме, то есть законы жизни, установленные Богом, а Христу не нужно ничего возвещать, Он Сам Хозяин, а потому тот, кто во Христе, уже не нуждается в каком-либо записанном законе, таким человеком управляет не закон, им управляет Христос.
Апостол продолжил свою мысль и написал о Духе Святом, голос которого не всегда приятен человеку, а потому человек может «ожесточать сердце» так, как это делали евреи во время Исхода. Благодаря этой отсылке становится понятно, что именно имеется в виду: Бог Духом Своим Святым наставляет человека на добрые дела, однако человек по своей привычке к злому, имеет тенденцию уклоняться от того, что ему говорит Бог, такое уклонение и есть упомянутое апостолом ожесточение сердца. Абсолютное большинство христиан прекрасно различают добро и зло, прекрасно понимают, какой поступок в той или иной жизненной ситуации станет исполнением воли Божией, а какой, напротив, будет противлением Богу. При этом далеко не всегда мы избираем то, что должны, наши сердца ожесточаются, и мы идём в противоположную от Бога сторону. Апостольское Послание к Евреям предупреждает нас, что ни для кого ещё такой выбор не заканчивался благом, и в качестве примера предлагает нам обратить внимание на печальную участь тех, кто во время Исхода роптал на Бога, сознательно отказываясь исполнять Его повеления.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Псалом 28. Богослужебные чтения

Как описать другому человеку Божественное всемогущество? Как передать при помощи слов ту идею, что сила Божия непреодолима? Что мощь Господа несокрушима и Он единственный полноправный Владыка Вселенной? Ответ на этот вопрос находим в 28-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
Псалом 28.
Псалом Давида. [При окончании праздника кущей.]
1 Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь,
2 воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его.
3 Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими.
4 Глас Господа силён, глас Господа величествен.
5 Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры Ливанские
6 и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу.
7 Глас Господа высекает пламень огня.
8 Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Господь пустыню Кадес.
9 Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и во храме Его всё возвещает о Его славе.
10 Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царём вовек.
11 Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.
Повседневный опыт подсказывает нам, что сильный — это кто-то большой и громкий. Его воля, как сталь. Ему все вынуждены подчиняться. Именно таким путём идёт автор прозвучавшего псалма, изображая могущество Бога Израиля. Он раскрывает всепобеждающую силу Творца через демонстрацию силы природы. Господь проявляет Себя в грандиозном шторме. При этом, если мы хотя бы немного знакомы с географией, образы псалма очень легко визуализировать.
Мы видим, как буря формируется над Средиземным морем. После этого она опускается на горный хребет на северо-востоке Палестины. Так что горы Ливан и Сирион скачут, подобно единорогу, дикому, необузданному животному. От напора стихии трещат и разлетаются в щепки величественные ливанские кедры. Шквал сопровождается раскатами грома, молнии бьют с такой силой, что кажется, будто на землю льют огонь. Вся это мощь катится по направлению к пустыне Кадес, то есть в район Синайского полуострова. Она проходит над Землёй Обетованной и свидетельствует каждому о силе Бога евреев.
Именно таким образом о могуществе Творца говорится не только в Псалтири. Подобный способ говорить о божественном мы встречаем и во многих литературах древнего мира. Потому что это было понятно людям. Однако есть в Священном Писании и другой способ. И автором Его является Сам Господь. Вспоминается пророк Илия, который ждёт на горе Хорив явления Божьего. Он ждёт, что Яхве явит себя в громе, молнии и землетрясении. Однако всё происходит совсем иначе. Неожиданно Господь является ему в лёгком веянии мягкого, ласкового ветерка.
Подобным образом в наш мир приходит и Христос. Иудеи ждали, что придёт выдающийся администратор, общественный деятель и политический лидер, подобный великим царям древности, Давиду и Соломону. А Бог пришёл тихо и незаметно. Как говорит пророк Исаия, «в Нём не было ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к Нему». Также тихо и незаметно Он действовал в Своей проповеди. Не призывал к грандиозным свершениям, реформам или революциям. Так незаметно Он учил действовать в своей жизни и Своих учеников. Когда сделаете доброе, наставлял Он, скажите про себя: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». И «пусть ваша правая рука, не знает, что делает левая». Однако в итоге оказалось, что именно в этой кротости и тихости скрывалась сила, способная сделать то, на что не способен ни один шторм. Это сила самой жизни, которая заставляет слабый, нежный росток пробиваться через толщу асфальта к солнцу, а мёртвых становиться живыми.
Так и в нашей жизни действует Господь. Мы порой ждём от Него явного знака. Мы ждём, что Его голос будет трубить, как иерихонская труба. Ждём, что однажды Он ворвётся в нашу жизнь, и в ней начнётся нескончаемый фейерверк и праздник. И потому впадаем в уныние, когда ничего подобного в жизни не происходит, и всё остаётся на своих местах. Так работает наше детское мышление. Именно оно говорит нам, что сильный — тот, кто самый громкий, тот, кого много. Взрослый понимает, что это не так. Настоящее совершается в тишине, без огласки. Так и духовно взрослый человек видит, что зачастую Господь действует в нашей жизни анонимно. Через привычные вещи. В бытовых ситуациях. При помощи людей, которых мы считаем самыми прозаичными и заурядными. И лишь тот, кто приучает себя действовать подобным образом в жизни своих близких, начинает явственно ощущать, что вся его жизнь наполнена Богом. И Бог всегда был рядом. И никогда не покидал нас. Но тихо и незаметно подкреплял нас Своей благодатью.
Владу Бунину нужно лекарство, чтобы побороть рак крови

Владислав и Елена познакомились в зимний день в одном из парков Воронежа. Он подхватил её за руку на скользком склоне, чтобы девушка не упала — с этого началась их дружба. С тех пор прошло уже 10 лет, за это время пара поженилась, и у них родился сын. Жизнь молодых людей была наполнена радостью и семейными хлопотами. Влад собирался построить загородный дом, чтобы быть с родными ближе к природе. Но болезнь никогда не считается с планами.
Не так давно самочувствие молодого человека стало стремительно ухудшаться. И на обследовании в больнице ему сообщили о тяжёлом диагнозе — онкологической болезни крови. Уютные семейные ужины, совместные прогулки и активный отдых — обо всём этом пришлось позабыть. Теперь Владислав всё время проводит в больничной палате, Лена часто его навещает, а сына он видит только по видеосвязи. Однако супруги не теряют надежды, что Влад скоро поправится и вернётся домой. Они признаются, что болезнь сделала их ещё ближе. Слова о любви звучат чаще прежнего, и каждая встреча, как праздник.
Сейчас Владислав находится в активной стадии лечения. Чтобы победить рак крови, ему необходим дорогостоящий препарат, который лишает вредоносные клетки возможности расти. Это ключевой шаг к ремиссии. Но семья молодого человека не в силах оплатить весь курс самостоятельно.
Помочь Владиславу Бунину пройти лечение и вернуться к родным можем мы с вами. Сбор для него открыт на сайте фонда «ДоброСвет».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов