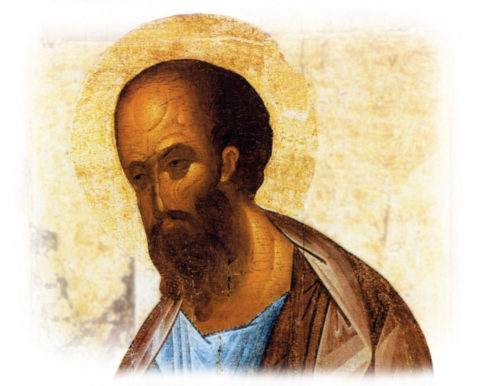Этот выпуск посвящен светлым историям о том, как рушились планы, но вместо ожидаемой катастрофы получалось, что с Божьей помощью всё оборачивалось на пользу. Своими воспоминаниями поделились ведущие Радио ВЕРА Алексей Пичугин, Константин Мацан, Анна Леонтьева и наш гость — клирик храма Всех святых в земле Российской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
Ведущие: Алексей Пичугин, Константин Мацан, Анна Леонтьева
А. Пичугин
— Друзья, здравствуйте! Сегодня понедельник, шесть вечера, и, как всегда, вы можете нас не только слышать, но и видеть в программе «Светлые истории». Я, Алексей Пичугин, с удовольствием представляю своих коллег, которые сегодня здесь вместе со мной в этой студии, это Анна Леонтьева, добрый вечер.
А. Леонтьева
— Добрый вечер.
А. Пичугин
— Константин Мацан.
К. Мацан
— Добрый вечер.
А. Пичугин
— И наш гость сегодня, протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших Новокосино. Здравствуйте.
о. Григорий
— Добрый вечер, друзья.
А. Пичугин
— Сегодня мы будем рассказывать истории о том, как менялись планы: «Хочешь насмешить Бога — расскажи о своих планах», то есть такая жизнь по воле Божьей, с одной стороны. Сегодня будем рассказывать истории о том, как рушились планы, вот человек что-то действительно хотел, стремился к этому, очень ждал, Бога просил, икону тряс: «Господи, хочу, дай!» — и не получалось. Потом проходило время, и как-то всё так складывалось, что вот эта просьба человеку была и не нужна. Если бы это всё произошло, что он хотел, его жизнь бы повернулась не так. Наверное, Бог делает так человеку, даже если он очень хочет, добивается того, что ему совершенно не нужно, но чтобы это его продвигало дальше, чтобы всё это было во благо. Но бывает по-всякому, и вот бывает, что человек не получает то, чего он хочет, но при этом жизнь его складывается именно так, как должно быть и он понимает, что вот в этом, наверное, состоит Промысл. Я, кажется, всех окончательно запутал, но!..
А. Леонтьева
— Сейчас будем распутывать. (смеются)
А. Пичугин
— Сейчас отец Григорий будет помогать нам распутывать своей историей.
о. Григорий
— История будет не моя, но близкого мне человека. Один прихожанин храма, где я служил, приходит и говорит: «Батюшка, благослови поехать на Рождество в Египет». Я говорю: «Не благословляю. Что ж ты, Владик, мы же хотели вместе. Как же ты так планы свои поменял?»
А. Пичугин
— Вместе в Египет?
о. Григорий
— Нет, вместе здесь Рождество праздновать. И он говорит: «Батюшка, я уже купил билеты, я не один еду, со мной будет девушка», и тут я уже говорю: «Ну езжай, а как же служба?» И он говорит: «Я поеду к коптам, вот обещаю вам, рука на сердце, что буду на ночной службе». И Владик уезжает. Но что-то он медлит с возвращением из Египта. Через какое-то время он звонит и говорит: «Ну, ты меня, отец, благословил». По видеосвязи звонит и вижу, что он в чепчике, в халатике, на койке больничной. Я говорю: «Владик, что случилось?» Он рассказывает: «Ты так меня благословил, сейчас я тебе покажу» — раскрывает этот халат на завязочке, а у него шрам от паха до солнечного сплетения, говорит: «У меня так все порвалось, так все покалечилось!» А история следующая: в канун Рождества Владик находит компанию русскоязычных людей, которых склоняет к тому, что непременно надо ехать к коптам и с ними помолиться, с христианами, братьями. Но, что интересно, в ночь ни его знакомая, никто, кроме него, не выходит в условленное время к заказанной машине. Водитель и он, вдвоем едут к коптам. Водитель заснул. Владик вылетел через лобовое стекло, ударился сильно, в реанимации провел много времени. Все страховочные деньги были истрачены. Подруга его не выдерживает этого всего, они рассорились.
А. Пичугин
— Рассорились они на почве вот этого происшествия?
о. Григорий
— Да. Мне кажется, что тут поворотный такой был момент. Но история-то хорошая, потому что каким-то образом человек, который лежал рядом с Владиславом, он какого-то древнего племени бедуинского. А главврач больницы — его родственник, внучатый племянник. И приходят бедуины, и вокруг с барабанами поют песни этому непростому человеку, который лежит в одной палате с Владиславом. И он говорит, что меня, наверное, завтра выкинут, выпишут. Но человек этот говорит: «нет». Зовет главврача, объясняет ему, что это хороший товарищ и друг, и верующий человек, и верит в Единого Бога — и Владику все почести, все лечение, в лучшем виде его там реабилитируют. Но поездка эта вместо двух недель оказалась на месяц. Потом еще с палочкой расхаживался, последствия до сих пор есть, ревматизм у него. Забыть об этом невозможно и не молиться невозможно. И произошел радикальный поворот — Владислав бросил все свои вредные привычки, они у него были. Он изменился в принципе, ведет аскетический образ жизни, помогает незрячим. Мы здесь до передачи говорили об инвалидах, какая сложность в контакте с теми или иными людьми.
А. Пичугин
— Надо нашим зрителям и слушателям сказать, что отец Григорий окормляет общину глухих.
о. Григорий
— Да, я когда-то ходил пять с половиной лет к незрячим в интернат, и там была девочка Екатерина, поздно ослепшая, в шесть лет из-за тяжелой болезни, это была опухоль в мозгу, у нее была вторичная атрофия зрительного нерва.
А. Пичугин
— Это, скорее всего, доброкачественная опухоль была. Так бывает.
о. Григорий
— Да, и Владислав присоединился ко мне в одну из поездок, посетил этих людей и остался им другом на всю жизнь. Эту девочку мы уже выдали замуж. Он был за меня свидетелем, когда я не смог приехать на свадьбу с ее мужем Константином. Вот такое преображение. Я не знаю, Владислав связывает ли сам эти явления, но я четко прослеживаю вот ту самую метанойю, когда человек переосмыслил жизнь, когда увидел свою жизнь не как страницы книги, которые листали, а вот как будто бы все страницы прозрачны, и всё сразу одновременно видно. И свет в конце туннеля — это, конечно же, Господь, перед Которым ты предстаешь, и тогда тебе становится все настолько ясно, все настолько видно, одновременно видно, и это поражающее впечатление. Планы, конечно, все поменялись, абсолютно все. Ну и, как говорится, друг познается в беде: переосмысление отношений, одних, вторых, третьих, четвертых, пятых, десятых. Не знаю, с чем мое благословение было связано, но мы гораздо сильнее стали дружить, больше общаться и поддерживаем друг друга в трудную минуту. И теперь благословение Владислав испрашивает крайне аккуратно, крайне обдуманно, и, наверное, праздники проводит в семье теперь.
А. Пичугин
— Я бы, отец Григорий, спросил: а для чего вообще в таких случаях берут благословение? Это что — попытка сказать Богу: «ну, наверное, в Египет на Рождество ехать бы не стоило, но это не я решил, это вот мой друг отец Григорий». Переложить ответственность как бы мне разрешили.
о. Григорий
— Я думаю, что не с этим связано, конечно. Ответственный христианин, когда берет благословение на что-либо, как раз он задумывается о том, что планы могут не состояться, что нужно Божественное вмешательство. Ведь это очень ответственно, очень хочется сказать в конце: «Боже, не моя воля пусть будет, но Твоя».
А. Пичугин
— Это сложно.
о. Григорий
— Это невозможно. Мы выдавливаем из себя эти слова, с усилием заставляем себя: ну, вот то хочется, это хочется, но всё-таки пусть будет по-Твоему. У меня есть кум, который крестил моего первого сына, он ходил к духовнику, и духовник сказал: «Тебе, Миша, надо молиться так: пусть будет как угодно, только не по-моему».
К. Мацан
— Хороший совет, по-моему, универсальный.
о. Григорий
— Видимо, это пришлось настолько в точку, что товарищ мой говорит, что я с таким трудом ушёл после этого разговора с духовником, от этого совета у меня внутри всё перевернулось, как же так: «как угодно, только не по-моему»? Но годы прошли и был период жизни, когда ему этот совет был крайне важен и крайне полезен. Поэтому, когда люди берут благословение, я надеюсь, для того, чтобы Божья воля на них осуществилась.
А. Пичугин
— Друзья, я напомню, что это «Светлые истории», которые вы можете не только слушать, но и смотреть на нашем сайте radiovera.ru, в нашей группе «ВКонтакте», ну и ещё на некоторых платформах, где иногда наши слушатели и зрители выкладывают понравившиеся истории. В общем, смотрите, ищите, самое главное — на сайте и в сообществе «Вконтакте». А мы здесь рассказываем истории о том, как рушились планы порой, когда ты уже знал, что тебя ждёт, знал, куда ты пойдёшь, поедешь, а потом вот что-то такое происходило, и ты понимал, что всё идёт или на пользу, или по-другому, или просто ты понимал, что в этом мире всё не случайно, неспроста. Вот истории на эту тему мы сегодня рассказываем. Я напомню, что сегодня с нами отец Григорий Крыжановский, протоиерей, клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших в Новокосино в Москве. И мои коллеги — Константин Мацан, Анна Леонтьева и я, Алексей Пичугин. Ну что, Аня?
А. Леонтьева
— Я хочу сказать, отец Григорий, что ещё один хороший вывод из вашей истории, что Владик, о котором вы рассказали, понял смысл своих отношений с девушкой, которая ушла от него, как только он попал в такую неприятную ситуацию.
А. Пичугин
— А я, кстати, даже и не понял из рассказа отца Григория, что она именно ушла от него.
о. Григорий
— Я думаю, что это был решающий такой момент. На самом деле её пришлось отправить домой, поскольку не было помощи, потому что то, что она видела, её вводило в тот случай, когда женщина плачет и не может остановиться, и никакой поддержки.
А. Пичугин
— А то, что её молодой человек лежит разрезанный?..
о. Григорий
— Ну, я с ней не разговаривал, на самом деле, потому что потрясение было серьёзное у всех, это и расстояние, особенности, реанимационное отделение и всё-всё-всё. Я просто могу сравнивать: вот у моей сестры парень когда-то на мотоцикле разбился, и там одни нейронные связи, один характер, одна реакция: вот быстро всех собрать, мобилизовать, найти помощь, а были случаи, когда человек сидит и плачет, и этому пострадавшему приходится как-то что-то делать самому.
А. Пичугин
— У всех свои особенности и характеры.
о. Григорий
— Да. Просто Владислав, он очень любит юмор, как такой способ решить самые сложные в жизни ситуации. И когда человек лежит и юморит на аппарате искусственного дыхания, со всеми катетерами для ввода и вывода, кто бы из нас шутил? Мы же, пока не окажемся, не узнаем, как будем выть, страдать, и до конца же непонятно, какие последствия в будущем. Не берусь я судить другого человека. Другое дело, хочу сказать, что я имел пример настоящего, искренне верующего человека, который обстоятельства по-настоящему тяжёлые жизненные, и финансовые, и разрыв в близких отношениях, использовал для того, чтобы менять свои отношения с Господом, для того, чтобы переосмысливать и видеть, зачем всё это нужно. Не «почему, за что?», как часто люди застревают на этом вопросе, не пытаясь спросить Господа: «для чего»? Я помню, с женой из-за ребёнка мы оказались в больнице, в реанимации несколько раз, и я благодарен Богу, честно, потому что я посещал реанимацию, но у меня не было той остроты, той боли и того отчаяния, когда собственного сына ждёшь из реанимации и думаешь: инвалид-не инвалид? Выживет-не выживет? В такие моменты, конечно, все планы меняются, друзья познаются лучше и помощь получаешь неведомо откуда, и молишься непрестанно, уже всё закончилось, а ты всё молишься и молишься, вспоминаешь это всё. Годы идут, но есть такие события, которые с нами по жизни, и я всем радиослушателям советую не отказываться от боли, если случаи, когда ваши планы не состоялись, связаны с какой-то скорбью, то это воспоминание, которое будет вас трезвить всю жизнь, которое будет вас возвращать к милости Божьей, к осознанию, что Бог владеет нами повсеместно, до конца.
А. Леонтьева
— Это прямо вот мне отец Григорий сейчас сказал, и я это восприняла. Вот так бывает, что человек говорит, и ты понимаешь, что какой-то ответ на давний вопрос получаешь. У меня две небольшие истории. Одну из них принесла в нашу радиостудию наша героиня, но я не буду называть имён, потому что могу не совсем точно рассказать, чтобы человека не раздосадовать. Однако эта история настолько пронзительная и из неё наша героиня, давайте её назовём Елена, сделала выводы.
А. Пичугин
— Итак, она звалась Елена.
А. Леонтьева
— История такая: Елена, будучи ещё подростком, жила в деревне, и она очень ждала своего дня рождения, потому что родители разрешили им на день рождения съездить в город, там повеселиться. Деревня такая была, видимо, глухая, и в город шёл автобус один раз в день туда и один раз вечером обратно. И вот они очень много дней ждали этого дня, когда они выйдут на остановку, какую-то денежку накопили для города. И они идут к остановке, представляете, — а автобус уже вдали. То есть он приехал на несколько минут раньше и уехал уже. Это страшное разочарование, досада, они стоят, плачут на этой остановке и, какое-то время спустя проезжает какой-то грузовик и подбрасывает их до города. Но времени уже мало до следующего автобуса, всё равно всё испорчено, настроение испорчено, ничего не успеем. Доехали просто формально до города, и тут они видят тот самый автобус, на который они не успели. Кость, ты помнишь, да, эту историю?
К. Мацан
— Я догадываюсь, чем она закончится.
А. Леонтьева
— Мне кажется, даже мы с тобой вели эту программу. Они ещё, знаете, говорят: «Вот мы сядем впереди за водителем, будем смотреть...», когда долго никуда не ездишь, сама поездка — это уже праздник. Вы знаете, я не помню точно, что произошло. Помню, что на автобус что-то упало, типа бетонной какой-то плиты. То есть произошла какая-то чудовищная авария, и они увидели этот автобус, практически разрубленный напополам, и это переднее сидение и вот эта бетонная плита... И наша Елена, которую мы так назвали, сказала: «Мне больше ничего не надо объяснять. Когда чего-то не происходит, я говорю: «Слава Тебе, Господи!» и живу дальше. Вот такое впечатление на нее это произвело. А вторую историю неожиданно я услышала от молодого человека: к дочери приехали друзья, он услышал, что мы будем обсуждать и рассказал тоже удивительную историю, но совершенно по-другому она на него подействовала. Он с детства мечтал работать в силовых структурах: быть военным, ловить преступников, шпионов, вот это всё. Он поступил в какое-то училище, где на это дело учат, и там очень большой акцент был на спорте, естественно. И вот он как-то бежал, сдавал норматив какой-то и ему стало очень плохо. Его доставили в больницу, положили под капельницу, что-то плохо с сердцем, врачи ушли, он остался в палате, а с ним сосед лежал в наушниках и смотрел какой-то фильм. И тут он чувствует, что начинает умирать, что сердце останавливается, и он уже ничего не может сказать. А сосед его просто не видит в упор, но ему удалось чуть-чуть рукой скинуть стакан, который стоял рядом с ним, и сосед позвал врачей, а он уже практически умер и полторы минуты находился в состоянии клинической смерти. Он рассказывает, что увидел себя со стороны, он даже показал, говорит, там как будто камера такая, и я через камеру на себя смотрю...
А. Пичугин
— И врачи стоят, склонившись.
А. Леонтьева
— Да-да-да, полторы минуты, пока ему не вкололи, по-моему, адреналин, и он вернулся. И, знаете, он не стал военным, и не стал ловить больше преступников и шпионов, это понятно. На него это произвело такое впечатление, что он стал учиться на врача. Дальше происходит следующий диалог, он говорит мне: «Я начал спасать людей потому, что мне показали, как внезапно конечна жизнь». И я отвечаю ему: «А тебе не кажется, что тебе показали, как она бесконечна? Потому что ты как бы вышел, ты умер, но ты видел себя со стороны. Для меня это очевидная ситуация». Он говорит: «Нет, мне врач объяснила, что перед тем, как умереть, мозг создает некие галлюцинации, чтобы было комфортно умирать. Это была такая вот галлюцинация».
А. Пичугин
— Да, это известное научное объяснение этому феномену. Понятно, что наука не может зафиксировать всё, что находится по ту сторону мониторов. И так как этот рассказ у очень многих вернувшихся после клинической смерти, не у всех, кстати говоря, но у многих. Есть исследования на эту тему, но наука объяснить это не может. Сказать, что это Божественное проявление, уход человека к Богу, в вечную жизнь, как угодно, наука не может по понятным причинам, поскольку тут нет предмета исследования, но нужно как-то объяснить попробовать, то есть гипотеза, что это вот мозг таким образом...
К. Мацан
— Просто есть научное объяснение, есть личностное. Наука исследует законы материи и может сказать, что в мозгу происходило в момент клинической смерти. Но это совершенно не объясняет, чем это станет в опыте личном для человека в его сознании. То есть, сказав, что в момент такого происходящего какие-то процессы происходят в мозге, мы совершенно ничего не отменили тем самым. Мы просто объяснили то, что происходит на уровне материального субстрата, а то, что происходит на уровне сознания — это просто параллельная история, потому что мы психосоматические существа, мы не духи бестелесные. Всё, что происходит в духе, в душе, сопровождается некими процессами и коррелируется с процессами в мозге, тут нет никакого противоречия. Если у человека, пережившего такой опыт, как бы он научно не был объяснён, в его личном восприятии сознания это стало каким-то переживанием чего-то, то тут совершенно научное объяснение не устраняет это переживание, оно просто объясняет его материальную подложку.
А. Леонтьева
— Но, вы знаете, интересно, что у парня две бабушки и обе верующие очень. И после этого случая, после его клинической смерти к вере пришла его мама. Она, пережив это, стала верующим человеком. А он говорит: «Ань, ты знаешь, перед смертью мне же всё покажут». И я говорю: «Слушай, а вдруг это будет уже поздно?» Тут я так пытаюсь, делаю попытки катехизации. И он говорит: «Это мысль, которую я очень часто слышу от молодых людей: если я буду жить по совести, то всё же будет нормально?». Тут я не знаю, чем крыть, ребята.
А. Пичугин
— Мы здесь сегодня рассказываем истории о том, как что-то не сложилось, но это изменило человека или это придало какой-то новый импульс его жизни, или, может быть, человек строил какие-то планы, а вот получилось совсем иначе, но получилось именно так, как должно было быть. Видите, у нас сегодня такая достаточно широкая вариативность. Рассказываем эти истории здесь мы — Анна Леонтьева, Константин Мацан, Алексей Пичугин и наш гость, отец Григорий Крыжановский, протоиерей, клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших в Новокосино, и мы скоро вернёмся, никуда не уходите.
А. Пичугин
— Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что здесь, сегодня вы нас можете и смотреть, и слушать на нашем сайте radiovera.ru и в нашем сообществе «ВКонтакте» наши истории о том, как кто-то строил планы, они не сложились, но вот так, как случилось, произошло, действительно, во благо. Или, может быть, это совсем как-то изменило жизнь человека, он всё переосмыслил, и всё стало по-другому. А может быть, просто всё получилось так, что ты не можешь на это смотреть иначе, как на какой-то Промысл, который всегда с тобой. Костя, твоя история.
К. Мацан
— Я прошу прощения, она будет светлой. (смеются). И она будет не про больницу. Хотя это как-то уже не в тренде нашей сегодняшней программы.
о. Григорий
— Про автобус, мне кажется, очень светлая история.
К. Мацан
— Да, да, безусловно. Но там тоже есть трагическая нота, мы этому дань, безусловно, отдали в своё время. Но когда я про нашу сегодняшнюю тему подумал, я почему-то вспомнил историю реально из моей жизни. По-моему, я её ещё не рассказывал в «Светлых историях», но она очень яркая для меня была. Но, знаете, вот эта история по отношению к нашей теме — перевёртыш. Это вот не то, когда «хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах», а про то, как Бог смеётся и стучит тебя по голове, чтобы ты сам свои планы выполнял. История была такая: несколько лет назад мы собирались ехать с семьёй в отпуск в Турцию, причём в осеннем месяце, потому что так дешевле, менее жарко, дети ещё были не в школе тогда и можно было поехать. И, как это всегда делается в таких ситуациях, сильно заранее (так тоже дешевле) бронировали тур. И где-то примерно в июле я оплатил эту поездку, а лететь мы должны были в октябре. И вылет был, это важно: в воскресенье. И в пятницу, накануне вылета, за два дня, в шесть утра, со мной такого никогда раньше не было, ты вдруг просыпаешься от того, что тебе в голову пришла мысль...
А. Пичугин
— Что не надо никуда ехать?
К. Мацан
— Нет. Нас четверо, и у дочки Серафимы нет загранпаспорта.
А. Леонтьева
— Класс.
К. Мацан
— Потому что это был её первый загранпаспорт, и мы решили, что оформим его ближе к поездке. Маленький ребёнок, а ей тогда было около двух лет. То есть мы решили, что лучше делать фотографию поближе к выходу паспорта. И вылет в воскресенье, в пятницу утром я просыпаюсь с мыслью: а есть ли у Серафимы загранпаспорт? То есть я почему-то июль, август, сентябрь, три месяца просто об этом не помнил, и именно в этот день мне кто-то эту мысль в голову послал.
А. Пичугин
— А как ты билеты купил?
К. Мацан
— Это тоже часть истории, это всё завязано в один узел, всё сошлось. Билеты покупало турагентство и им нужно было просто вписать имя потом в эти билеты, они буквально накануне вылета нам их присылают, такая процедура есть, и она тоже свою роль сыграла. Я просыпаюсь в ужасе, бужу супругу: «У нас нет загранпаспорта у Серафимы!» И дальше мы гуглим, как сделать загранпаспорт за сутки. Там первый сайт: «услуга загранпаспорт ребенку за сутки», там 500 евро, условно говоря. Второй какой-то мудрый сайт: «бегите в МФЦ ближайший, бросайтесь в ноги и просите, чтобы вам сделали». Я беру Серафиму с собой, ребенок в ужасе, его куда-то тащат, прибегаю в этот МФЦ и говорю девушке, которая помогает людям оформлять эти бумажки: «Так, у меня ситуация такая: нам послезавтра вылетать в Турцию, а у меня нет паспорта у ребенка». Она: «Как так?» Говорю: «Я идиот! Поймите, я за три месяца забыл это сделать, всё. Как это сделать теперь?» — «Ну, типа, идите вот в окошко».
А. Пичугин
— Странно, что уже даже до этого дошло.
К. Мацан
— А это пятница. Они работают пятница, суббота — утро, и всё. Я подхожу: «Здравствуйте. Я идиот, поймите вот так получилось...» — «Ну как вы могли?..» — «Всё, проехали, как это сделать?!» — «Хорошо, напишите всё же заявление и надо фотографию». Ребенку два года, она не влезает в будку, где фотографируются, там нужно сесть, но ребенок маленький, он ниже камеры, а никого в кадре кроме неё, быть не должно. Я с одной стороны ее держу, мне помогает девушка из МФЦ с другой стороны и в этом паспорте у Серафимы такая фотография с выражением лица: «Боже мой, куда вы меня тащите?» Вот, сделали фотографию, отдали документы. И мне тётечка в окошке говорит: «Мы сейчас их передадим на второй этаж в отделение МВД, там их должны рассмотреть». Я говорю: «А вы можете туда позвонить и сказать, чтобы они вот как-то учли ситуацию?» Знаете, для меня это вообще не свойственно, я очень человек застенчивый и когда мне надо просить кого-то, я так боюсь этого ответа из серии: «Вас много, я одна, что вы лезете, закон есть закон, надо было раньше думать!..» Я вот просто готов со стыда сгореть, лишь бы этим не заниматься. А тут делать нечего, у меня глаза вот такие, я говорю: «Позвоните, пожалуйста, туда». Сорок минут ждём. Говорит: «Хорошо, ваши документы туда передали, идите теперь туда в очередь». Я иду туда в очередь, в окошко говорю: «Здравствуйте! Я идиот, понимаете, вот как-то так получилось, что я три месяца не помнил и только сейчас вспомнил, вот так бывает...» Вот так я по этим кругам мотался и мне в итоге говорят: «Хорошо, мы ваши документы взяли, завтра приходите с утра, будет человек на месте сидеть, если он навстречу пойдёт, то он вам завтра все и сделает» А завтра суббота, но у них есть смена, в субботу в первой половине дня они работают, но нужно, чтобы был человек, который пошёл бы на встречу. Мы там как-то молимся, как можем, приходим на следующее утро. Я эту всю повторяю мантру про то, что я — герой романа Достоевского, всё вот это: «как это так получилось?» И в итоге паспорт нам делают, идут навстречу. Причём знаете, такой человеческий момент: мы всё это объяснили, и сотрудник говорит: «Я могу сейчас вам паспорт напечатать, вклеить фотографию, заламинировать, через автомат пропустить, то есть сейчас будет паспорт, бланк, номер, всё. Но мне же, нужно, чтобы начальник подписал, а начальник только в понедельник будет, а я без его подписи не имею права отдать». Причем, они это все с коллегой обсуждают, и он так: «Ну, задним числом подпишет, что был паспорт такой». Короче, мы улетели на этот отдых, слава Богу, в эту Турцию, отдохнули.
А. Пичугин
— Это невероятная история.
К. Мацан
— Да, но вот вопрос: кто мне в пятницу утром послал эту мысль в голову, да?
А. Пичугин
— Сквозь сон пробралась.
К. Мацан
— Вот кто меня разбудил этой мыслью? Не знаю, может быть, опять научное объяснение будет, что как-то вот нейроны так действовали, и что-то в итоге сложилось, но у меня нет другого объяснения. Когда три месяца ты об этом не помнил, Господь терпел до последнего, чтобы ты уже в эту свою Турцию с семьёй поехал, чтобы время с семьёй провёл — ты сделай, вспомни и пересиль себя. Но был ещё маленький такой любопытный эпизод: потом надо было менять загранпаспорт старшему ребёнку, и я подумал: хорошо бы поскорее поменять и не провернуть ли ещё раз такую же операцию? Но, видимо, поскольку ужаса в моих глазах уже не было такого, а сыграть это я не мог, нам вежливо сказали, что «две недели ждите паспорт, всё в порядке». Так ставки не были задраны, и Господь не послал тех людей в нужных местах, которые бы тебя поддержали. У меня вот такая история.
А. Леонтьева
— Потрясающе.
А. Пичугин
— У меня была как раз обратная история с загранпаспортом моим, который уехал на переоформление, потому что срок истёк и новый паспорт должны были выдать к определённому времени. А мы тоже должны были улетать, в итоге мы улетели в другое время, позже, не туда, куда хотели, только потому, что ещё там действовал мой старый паспорт, по нему можно было. Это же известная история, когда срок загранпаспорта истекает, есть много достаточно стран, куда с ним нельзя там за полгода, за восемь месяцев, за девять, надо смотреть конкретные страны. И когда я вернулся и пошёл получать паспорт, который уже по всем срокам был готов — естественно, мне пришло сообщение, что «ваш паспорт готов» ровно в тот день, когда он по закону должен был быть готов. Когда мне его выдали, и я расписывался во всех бланках, то увидел, что и подпись начальника стояла, и всё на свете стояло дней через четыре-пять после того, как я подал документы, то есть всё могло произойти по-другому, но вот получилось именно так. Опять же, может быть и хорошо, что мы не уехали туда, куда планировали, и паспорт поменялся.
о. Григорий
— Мне кажется, у нас у всех есть история с паспортом. У меня жена получила паспорт, выходит, я говорю: «Ну и как там написано?» — «Вот так-то». Я говорю: «И ты расписалась здесь?» — «Да». Я говорю: «Какой ужас, у меня в паспорте в отметке „женат“ другое имя, ты что творишь?» — А разве есть разница?" Я говорю: «Ещё какая разница!» И мы поехали в этот же день, и нам на следующий день выдали паспорт, но ошибка была сотрудника. Всё мгновенно было переделано, но сутки ушли на это, конечно.
А. Пичугин
— У меня товарищ весь свой первый паспорт, сколько лет он длится, жил с неправильно написанным отчеством, которое для него стало уже таким своеобразным прозвищем. Он стал известным учёным и даже в научных кругах его порой знают по этой детской ошибке в паспорте, потому что эта история там везде разошлась и вот это неправильное отчество стало его псевдонимом, ником, как угодно.
А. Пичугин
— Друзья, мы рассказываем истории о том, как рушились планы, о том, как всё менялось, и как всё менялось ко благу, может быть, не всегда ко благу, а всё происходило так, как было задумано где-то и не нами, но повлиять на это мы не могли, а может быть, то, что произошло, нас к чему-то подвигло, как-то изменило. Рассказываем мы, протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма Всех святых в земле Российской, просиявших в Новокосино в Москве, Анна Леонтьева, Константин Мацан и я, Алексей Пичугин, а вы нас и слушаете, и смотрите на сайте radiovera.ru, а также в сообществе «Вконтакте». Я расскажу свою историю, она, сразу хочу сказать, очень-очень печальная. Тут нет, наверное, какого-то поучительного завершения, просто у меня череда была похожих историй, я все не помню, я помню эту, поскольку я её никогда не забуду. Подобных историй, как всё менялось накануне непонятно почему, было много, но, когда я пытался вспомнить похожие, только эту помнил, хотя она двадцать лет назад произошла. Я, кажется, рассказывал в наших «Светлых историях» про период своей церковной юности, воцерковления и про храм подмосковный, куда я ходил много лет, ещё даже в школе туда ездил по субботам, когда сам к вере осознанно пришёл, и там познакомился с отцом Александром, которого, пожалуй, могу назвать своим духовником до сих пор, хотя человека нет уже двадцать лет. Мы несколько лет очень-очень дружили семьями, ходили друг к другу в гости, приезжали к нему домой постоянно, такой приход у нас был очень дружный, я, пожалуй, второго такого тогда и не знал, и потом не знал, мы жили почти одной семьёй все. И нас объединяло то, что отец Александр был совершенно неординарный человек, который, казалось, уже к тому моменту прожил тысячу жизней, хотя ему было шестьдесят четыре года всего, и это был такой человек могучего, абсолютно богатырского сложения и здоровья, что, казалось, он ещё тысячу жизней проживёт. В храме там три придела было, и наступал престольный праздник одного из приделов храма, и престолов, я собирался туда ехать. Уже к тому времени я каких-то друзей возил в Никулино, знакомил с отцом Александром, уже кто-то и сам ездил. И вот мы какой-то компанией собираемся поехать и накануне с отцом Александром созваниваемся, обсуждаем какие-то вещи по службе и что-то ещё обсуждаем, и тут мне вдруг подряд все мои друзья, с которыми я собираюсь ехать, начинают звонить и говорить: «Слушай, что-то не складывается». Даже странно, уже думал: ну кто следующий теперь позвонит, ну не может быть, чтобы все разом отказались! Ведь люди не то что там сговорились, они друг друга знают постольку-поскольку, просто у всех вдруг возникли какие-то обстоятельства непреодолимой силы, почему они поехать не могут. Ну и в итоге: ладно, Бог с вами, еду один я, с утра приезжаю, а отец Александр рано всегда приезжал. И я ставлю машину, а его нет — странно. И вдруг мне звонят и говорят, что он погиб в автокатастрофе по дороге, собственно, на эту службу. И для меня мир перевернулся с тех пор, не было дня, чтобы я отца Александра не вспоминал, и про него я уже рассказывал много раз здесь, в «Светлых историях». Но это вот коротенькая история о том, что это невозможно объяснить какими-то совпадениями, чтобы у нескольких человек вот так, вдруг возникли какие-то свои планы потому, что мне в тот момент, наверное, последнее, что хотелось — это видеть там своих близких очень друзей, но это совершенно не те люди, которые мне в тот момент были нужны рядом. Если бы они поехали, это началась бы какая-то суета, объяснения, разговоры, а это всё-таки достаточно отдалённый приход, куда добираться без машины, можно только автобусом и электричкой, неудобно, кто бы там кого куда отвозил. Слава Богу, что вот именно так в такой тяжелейшей ситуации сложилось, но для меня это абсолютно неспроста всё было. Такая история.
А. Леонтьева
— Ну, знаешь, мне кажется, вот эта история, она не только о том, почему все отказались, а вообще вот этот неожиданный уход очень близких людей как бы настраивает нас на то, что не то что там планы не строить, а просто всегда к ним как можно больше обращаться. Я твою историю про отца Александра очень запомнила, она такая пронзительная.
А. Пичугин
— Я бы, наверное, не хотел, чтобы наша программа заканчивалась на печальной ноте.
о. Григорий
— Но история, наверное, не печальная.
А. Пичугин
— История, наверное, не печальная сама по себе, но всё равно любая история, связанная с уходом человека, она личная. Мы периодически спорим с моим очень-очень близким другом, когда я ему говорю об очередном священнике, что «вот, такой-то умер, представляешь?» А друг говорит: «Ну, а что? Так человеку же лучше теперь. Что ты вообще за него переживаешь?» И вот я до сих пор считаю, что смерть — это всегда... Нельзя так рассуждать, что «ему-то теперь лучше», вот я с этим в корне не согласен, потому что мы даже из Евангелия помним, когда Спаситель молился в Гефсиманском саду: «Пронеси чашу сию мимо меня» и страх смерти, и плакал по Лазарю, а уж Он-то знал, что там, за пределами, и всё равно Он плакал. Этому можно множество причин найти и всё равно мы точной причины не будем знать. Я хотел бы ещё одну историю рассказать, она не моя, это история от наших слушателей, она очень трогательная и меня, действительно, по-доброму удивила. Кстати, вы пишите, друзья, нам свои светлые истории. Пишите нам то, что вас трогает, что вы в своей жизни переживаете и чем готовы поделиться. Мы говорим, что у нас самые искренние истории в нашей программе, но понятно, что далеко не всем мы можем делиться, далеко не всё мы можем здесь вот так, напоказ рассказывать. А вот эта история из тех, которые хочется рассказать.
А. Леонтьева
— Где ты, кстати, взял эту историю? Потому что я очень прошу наших дорогих радиослушателей, радиозрителей: присылайте свои истории в группу «ВКонтакте», нам их очень не хватает.
А. Пичугин
— Пишите в сообщество «ВКонтакте», пишите на почту [email protected]. Мы эти истории ищем, ждём, читаем и по возможности рассказываем. История эта произошла не в России, это было в Сербии в феврале 2021 года. Роддом в Белграде. «После полудня я лежала, — пишет женщина, — на своей больничной койке, счастливая, что родила нашего третьего ребёнка, сыночка. После меня в палату привезли новоиспечённую маму и завязался оживлённый разговор. Я спрашиваю: «А кого ты родила?» Она говорит: «Маленькую Машу». — «У меня тоже есть старшая доченька Маша, а полное имя Мария». — «А мы хотели, чтобы полное имя было Маша, чтобы звучало по-русски. Я и старшему сыну дала имя Алёша». Ну, понятно, что дело происходит в Сербии и собеседница нашей героини, она не совсем сербка, у неё есть русские корни, но она родилась и живёт в Сербии. «У меня бабушка русская, поэтому я хотела, чтобы имена детей напоминали им о русской прабабушке». — «Ого, и моя мама русская, как ты меня порадовала! А как твоя бабушка оказалась в Сербии?» Это длинная история: бабушка в детстве вместе с семьёй во время войны оказалась в немецком лагере, где их всех разделили. И в итоге, когда её освободили из лагеря, она никого из родных найти не смогла и думала, что все погибли. В лагере она познакомилась с молодым человеком, сербом, они полюбили друг друга, и потом уже, после того, как их освободили, поехали в Сербию и начали там новую жизнь, создали семью, родились дети, и потом уже появились внуки. Однажды на пешеходном переходе на площади Славия в Белграде её кто-то окликнул по имени, отчеству и девичьей фамилии на чисто русском. Она вздрогнула и увидела пожилого мужчину, и оказалось, что это был её родной младший брат.
А. Леонтьева
-Ничего себе.
А. Пичугин
— Он был в Белграде в командировке и узнал её по особенному дефекту: сросшемуся мизинцу и безымянному пальцу. Ну, действительно, все-таки редкая особенность, и у брата её как-то случайно взгляд упал, и он вспомнил. Это была очень трогательная встреча спустя полвека, когда люди не знали после печали, боли от утраты семьи, что чудом большая часть семьи выжила, они вернулись в Россию, где все воссоединились, а вот эту девочку, они думали, что навсегда потеряли. И с той судьбоносной встречи они стали собираться всей семьёй раз в год в Сербии и раз в год в России. И вот резюме нашей зрительницы, слушательницы — это для меня свидетельство Божьей любви, которая никогда не прекращается, всегда заботится о нас и никогда нас не оставляет.
А. Леонтьева
— Какая прекрасная история... Она затмила все наши истории.
А. Пичугин
— История действительно чудесная. Кустурица бы, наверное, мог красиво это снять.
о. Григорий
— Видите, не хочется даже называть это дефектом, это особенность. Может быть, носительница этой особенности какое-то время расстраивалась по этому поводу, а Господь так утешил, всё переиграл.
К. Мацан
— Вот к вопросу об особенностях. Мне рассказывали историю про то, как женщина решила порадовать мужа. Они были много лет уже в браке, и у женщины был, как мне рассказывали, такой особенный прикус. Не знаю, была ли это заячья губа или нет, но вот были такие длинные передние зубы, как-то чуть длиннее пропорции, такие немножко выступающие. И она решила их как-то хирургически у стоматолога-хирурга подкоротить, чтобы стать совсем красивой, чтобы для мужа быть красавицей. И когда пришла домой, муж расплакался. Говорит: «Ты что, я тебя за эти зубы полюбил! Как же ты так?»
А. Пичугин
— Могла обидеться: «Ах, так! Только за зубы!» (смеются)
К. Мацан
— Но там всё-таки история была не про обиду, я уверен, что муж её любил дальше и такой. Это к тому, что иногда то, что мы в себе считаем нуждающимся в исправлении, ближние с этим там сродняются, для них это какая-то наша любимая особенность, а не порицаемая.
о. Григорий
— По этому поводу даже есть хорошая пословица: «если хочешь узнать о себе всю правду — спроси у друзей».
К. Мацан
— Тут скорее такое, что они всю правду о тебе нелицеприятную расскажут. А здесь я просто знаю, что бывают подростки, особенно девочки, что «вот, я там не такая, некрасивая, у меня большой нос», что-нибудь еще такое, себя не принимают. И когда родители им искренне говорят: «Да ты что, это твоя изюминка, это красиво, да за твой нос парни будут штабелями лежать» — она в какой-то момент не верит. Должно пройти время, чтобы она убедилась в мудрости и правильности родительских слов, потому что они были сказаны из опыта.
А. Пичугин
— Ну и действительно, ведь время меняет черты лица и то, что ребенку кажется чем-то не таким, да даже, может, и родителям иногда кажется. Они, конечно, любимого ребенка успокаивают, но сами так думают. А потом раз — и всё, и нет этого, и как-то время все исправило. Человек растет, и черты лица, форма меняется.
о. Григорий
— Я помню потрясающая была история: митрополит Антоний Сурожский рассказывал про то, как у него был знакомый, который был очень высоким. Вот я реально недавно такого увидел в метро: человек, которому, чтобы войти в вагон, нужно нагнуться, там под два метра рост, такой красивый, статный мужчина. Ну вот такая конституция. Я сразу вспомнил историю владыки Антония, как он рассказывал, что вот был такой высокий человек, который очень комплексовал по поводу своего роста и даже к нему подходили детишки, которые были помладше, но были сильно ниже его и спрашивали: «Дядя, тебе там не скучно одному наверху?» И он не любил эту свою черту, но он её совершенно переоценил во время Второй мировой войны, когда на фронте за ним могли укрыться двое. Он был высокий, широкоплечий и мог, благодаря своему росту, прикрывать других. Это вот тоже такой пример, когда особенность становится чем-то, что ты начинаешь ценить, но вот уже в таком очень высоком христианском смысле.
А. Леонтьева
— Я ещё хочу сказать, про дивную историю, которую ты прочитал от радиослушательницы: когда ты такое читаешь, просто немеешь от осознания, что Господь вот такую меточку оставил, и вот по этой метке человек нашёл снова свою семью. Это значит, что Господь знал на много шагов вперёд, как это всё сложится.
А. Пичугин
— В этом даже можно было и не сомневаться.
А. Леонтьева
— Да-да-да. Но от этого просто действительно немеешь. Спасибо большое.
К. Мацан
— Мы просто об этом забываем, а вот такие истории, они напоминают, что у Бога Промысл никогда не прекращается.
А. Пичугин
— Протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших в Новокосино в Москве, Константин Мацан, Анна Леонтьева и я, Алексей Пичугин, рассказывали здесь светлые истории: истории о том, как рушились планы, как менялся мир у человека, но это вдруг происходило во благо или так меняло человека, что уже возврата к прежней жизни не было, или, может быть, всё произошло вот как-то очень непонятно, но ты осознаёшь, что совсем неспроста. Спасибо вам. Слушайте нас, смотрите нас и встретимся с вами, по крайней мере, в видеоформате в следующий понедельник в шесть вечера. Всего доброго.
К. Мацан
Всего доброго.
о. Григорий
— До свидания.
А. Леонтьева
— Всего доброго.
«Светлые истории»
Дата эфира: 17.03.2025
Гость: протоиерей Григорий Крыжановский
Ведущие: Алексей Пичугин, Анна Леонтьева, Константин Мацан
А. Пичугин
— Друзья, здравствуйте! Сегодня понедельник, шесть вечера, и, как всегда, вы можете нас не только слышать, но и видеть в программе «Светлые истории». Я, Алексей Пичугин, с удовольствием представляю своих коллег, которые сегодня здесь вместе со мной в этой студии, это Анна Леонтьева, добрый вечер.
А. Леонтьева
— Добрый вечер.
А. Пичугин
— Константин Мацан.
К. Мацан
— Добрый вечер.
А. Пичугин
— И наш гость сегодня, протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших Новокосино. Здравствуйте.
о. Григорий
— Добрый вечер, друзья.
А. Пичугин
— Сегодня мы будем рассказывать истории о том, как менялись планы: «Хочешь насмешить Бога — расскажи о своих планах», то есть такая жизнь по воле Божьей, с одной стороны. Сегодня будем рассказывать истории о том, как рушились планы, вот человек что-то действительно хотел, стремился к этому, очень ждал, Бога просил, икону тряс: «Господи, хочу, дай!» — и не получалось. Потом проходило время, и как-то всё так складывалось, что вот эта просьба человеку была и не нужна. Если бы это всё произошло, что он хотел, его жизнь бы повернулась не так. Наверное, Бог делает так человеку, даже если он очень хочет, добивается того, что ему совершенно не нужно, но чтобы это его продвигало дальше, чтобы всё это было во благо. Но бывает по-всякому, и вот бывает, что человек не получает то, чего он хочет, но при этом жизнь его складывается именно так, как должно быть и он понимает, что вот в этом, наверное, состоит Промысл. Я, кажется, всех окончательно запутал, но!..
А. Леонтьева
— Сейчас будем распутывать. (смеются)
А. Пичугин
— Сейчас отец Григорий будет помогать нам распутывать своей историей.
о. Григорий
— История будет не моя, но близкого мне человека. Один прихожанин храма, где я служил, приходит и говорит: «Батюшка, благослови поехать на Рождество в Египет». Я говорю: «Не благословляю. Что ж ты, Владик, мы же хотели вместе. Как же ты так планы свои поменял?»
А. Пичугин
— Вместе в Египет?
о. Григорий
— Нет, вместе здесь Рождество праздновать. И он говорит: «Батюшка, я уже купил билеты, я не один еду, со мной будет девушка», и тут я уже говорю: «Ну езжай, а как же служба?» И он говорит: «Я поеду к коптам, вот обещаю вам, рука на сердце, что буду на ночной службе». И Владик уезжает. Но что-то он медлит с возвращением из Египта. Через какое-то время он звонит и говорит: «Ну, ты меня, отец, благословил». По видеосвязи звонит и вижу, что он в чепчике, в халатике, на койке больничной. Я говорю: «Владик, что случилось?» Он рассказывает: «Ты так меня благословил, сейчас я тебе покажу» — раскрывает этот халат на завязочке, а у него шрам от паха до солнечного сплетения, говорит: «У меня так все порвалось, так все покалечилось!» А история следующая: в канун Рождества Владик находит компанию русскоязычных людей, которых склоняет к тому, что непременно надо ехать к коптам и с ними помолиться, с христианами, братьями. Но, что интересно, в ночь ни его знакомая, никто, кроме него, не выходит в условленное время к заказанной машине. Водитель и он, вдвоем едут к коптам. Водитель заснул. Владик вылетел через лобовое стекло, ударился сильно, в реанимации провел много времени. Все страховочные деньги были истрачены. Подруга его не выдерживает этого всего, они рассорились.
А. Пичугин
— Рассорились они на почве вот этого происшествия?
о. Григорий
— Да. Мне кажется, что тут поворотный такой был момент. Но история-то хорошая, потому что каким-то образом человек, который лежал рядом с Владиславом, он какого-то древнего племени бедуинского. А главврач больницы — его родственник, внучатый племянник. И приходят бедуины, и вокруг с барабанами поют песни этому непростому человеку, который лежит в одной палате с Владиславом. И он говорит, что меня, наверное, завтра выкинут, выпишут. Но человек этот говорит: «нет». Зовет главврача, объясняет ему, что это хороший товарищ и друг, и верующий человек, и верит в Единого Бога — и Владику все почести, все лечение, в лучшем виде его там реабилитируют. Но поездка эта вместо двух недель оказалась на месяц. Потом еще с палочкой расхаживался, последствия до сих пор есть, ревматизм у него. Забыть об этом невозможно и не молиться невозможно. И произошел радикальный поворот — Владислав бросил все свои вредные привычки, они у него были. Он изменился в принципе, ведет аскетический образ жизни, помогает незрячим. Мы здесь до передачи говорили об инвалидах, какая сложность в контакте с теми или иными людьми.
А. Пичугин
— Надо нашим зрителям и слушателям сказать, что отец Григорий окормляет общину глухих.
о. Григорий
— Да, я когда-то ходил пять с половиной лет к незрячим в интернат, и там была девочка Екатерина, поздно ослепшая, в шесть лет из-за тяжелой болезни, это была опухоль в мозгу, у нее была вторичная атрофия зрительного нерва.
А. Пичугин
— Это, скорее всего, доброкачественная опухоль была. Так бывает.
о. Григорий
— Да, и Владислав присоединился ко мне в одну из поездок, посетил этих людей и остался им другом на всю жизнь. Эту девочку мы уже выдали замуж. Он был за меня свидетелем, когда я не смог приехать на свадьбу с ее мужем Константином. Вот такое преображение. Я не знаю, Владислав связывает ли сам эти явления, но я четко прослеживаю вот ту самую метанойю, когда человек переосмыслил жизнь, когда увидел свою жизнь не как страницы книги, которые листали, а вот как будто бы все страницы прозрачны, и всё сразу одновременно видно. И свет в конце туннеля — это, конечно же, Господь, перед Которым ты предстаешь, и тогда тебе становится все настолько ясно, все настолько видно, одновременно видно, и это поражающее впечатление. Планы, конечно, все поменялись, абсолютно все. Ну и, как говорится, друг познается в беде: переосмысление отношений, одних, вторых, третьих, четвертых, пятых, десятых. Не знаю, с чем мое благословение было связано, но мы гораздо сильнее стали дружить, больше общаться и поддерживаем друг друга в трудную минуту. И теперь благословение Владислав испрашивает крайне аккуратно, крайне обдуманно, и, наверное, праздники проводит в семье теперь.
А. Пичугин
— Я бы, отец Григорий, спросил: а для чего вообще в таких случаях берут благословение? Это что — попытка сказать Богу: «ну, наверное, в Египет на Рождество ехать бы не стоило, но это не я решил, это вот мой друг отец Григорий». Переложить ответственность как бы мне разрешили.
о. Григорий
— Я думаю, что не с этим связано, конечно. Ответственный христианин, когда берет благословение на что-либо, как раз он задумывается о том, что планы могут не состояться, что нужно Божественное вмешательство. Ведь это очень ответственно, очень хочется сказать в конце: «Боже, не моя воля пусть будет, но Твоя».
А. Пичугин
— Это сложно.
о. Григорий
— Это невозможно. Мы выдавливаем из себя эти слова, с усилием заставляем себя: ну, вот то хочется, это хочется, но всё-таки пусть будет по-Твоему. У меня есть кум, который крестил моего первого сына, он ходил к духовнику, и духовник сказал: «Тебе, Миша, надо молиться так: пусть будет как угодно, только не по-моему».
К. Мацан
— Хороший совет, по-моему, универсальный.
о. Григорий
— Видимо, это пришлось настолько в точку, что товарищ мой говорит, что я с таким трудом ушёл после этого разговора с духовником, от этого совета у меня внутри всё перевернулось, как же так: «как угодно, только не по-моему»? Но годы прошли и был период жизни, когда ему этот совет был крайне важен и крайне полезен. Поэтому, когда люди берут благословение, я надеюсь, для того, чтобы Божья воля на них осуществилась.
А. Пичугин
— Друзья, я напомню, что это «Светлые истории», которые вы можете не только слушать, но и смотреть на нашем сайте radiovera.ru, в нашей группе «ВКонтакте», ну и ещё на некоторых платформах, где иногда наши слушатели и зрители выкладывают понравившиеся истории. В общем, смотрите, ищите, самое главное — на сайте и в сообществе «Вконтакте». А мы здесь рассказываем истории о том, как рушились планы порой, когда ты уже знал, что тебя ждёт, знал, куда ты пойдёшь, поедешь, а потом вот что-то такое происходило, и ты понимал, что всё идёт или на пользу, или по-другому, или просто ты понимал, что в этом мире всё не случайно, неспроста. Вот истории на эту тему мы сегодня рассказываем. Я напомню, что сегодня с нами отец Григорий Крыжановский, протоиерей, клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших в Новокосино в Москве. И мои коллеги — Константин Мацан, Анна Леонтьева и я, Алексей Пичугин. Ну что, Аня?
А. Леонтьева
— Я хочу сказать, отец Григорий, что ещё один хороший вывод из вашей истории, что Владик, о котором вы рассказали, понял смысл своих отношений с девушкой, которая ушла от него, как только он попал в такую неприятную ситуацию.
А. Пичугин
— А я, кстати, даже и не понял из рассказа отца Григория, что она именно ушла от него.
о. Григорий
— Я думаю, что это был решающий такой момент. На самом деле её пришлось отправить домой, поскольку не было помощи, потому что то, что она видела, её вводило в тот случай, когда женщина плачет и не может остановиться, и никакой поддержки.
А. Пичугин
— А то, что её молодой человек лежит разрезанный?..
о. Григорий
— Ну, я с ней не разговаривал, на самом деле, потому что потрясение было серьёзное у всех, это и расстояние, особенности, реанимационное отделение и всё-всё-всё. Я просто могу сравнивать: вот у моей сестры парень когда-то на мотоцикле разбился, и там одни нейронные связи, один характер, одна реакция: вот быстро всех собрать, мобилизовать, найти помощь, а были случаи, когда человек сидит и плачет, и этому пострадавшему приходится как-то что-то делать самому.
А. Пичугин
— У всех свои особенности и характеры.
о. Григорий
— Да. Просто Владислав, он очень любит юмор, как такой способ решить самые сложные в жизни ситуации. И когда человек лежит и юморит на аппарате искусственного дыхания, со всеми катетерами для ввода и вывода, кто бы из нас шутил? Мы же, пока не окажемся, не узнаем, как будем выть, страдать, и до конца же непонятно, какие последствия в будущем. Не берусь я судить другого человека. Другое дело, хочу сказать, что я имел пример настоящего, искренне верующего человека, который обстоятельства по-настоящему тяжёлые жизненные, и финансовые, и разрыв в близких отношениях, использовал для того, чтобы менять свои отношения с Господом, для того, чтобы переосмысливать и видеть, зачем всё это нужно. Не «почему, за что?», как часто люди застревают на этом вопросе, не пытаясь спросить Господа: «для чего»? Я помню, с женой из-за ребёнка мы оказались в больнице, в реанимации несколько раз, и я благодарен Богу, честно, потому что я посещал реанимацию, но у меня не было той остроты, той боли и того отчаяния, когда собственного сына ждёшь из реанимации и думаешь: инвалид-не инвалид? Выживет-не выживет? В такие моменты, конечно, все планы меняются, друзья познаются лучше и помощь получаешь неведомо откуда, и молишься непрестанно, уже всё закончилось, а ты всё молишься и молишься, вспоминаешь это всё. Годы идут, но есть такие события, которые с нами по жизни, и я всем радиослушателям советую не отказываться от боли, если случаи, когда ваши планы не состоялись, связаны с какой-то скорбью, то это воспоминание, которое будет вас трезвить всю жизнь, которое будет вас возвращать к милости Божьей, к осознанию, что Бог владеет нами повсеместно, до конца.
А. Леонтьева
— Это прямо вот мне отец Григорий сейчас сказал, и я это восприняла. Вот так бывает, что человек говорит, и ты понимаешь, что какой-то ответ на давний вопрос получаешь. У меня две небольшие истории. Одну из них принесла в нашу радиостудию наша героиня, но я не буду называть имён, потому что могу не совсем точно рассказать, чтобы человека не раздосадовать. Однако эта история настолько пронзительная и из неё наша героиня, давайте её назовём Елена, сделала выводы.
А. Пичугин
— Итак, она звалась Елена.
А. Леонтьева
— История такая: Елена, будучи ещё подростком, жила в деревне, и она очень ждала своего дня рождения, потому что родители разрешили им на день рождения съездить в город, там повеселиться. Деревня такая была, видимо, глухая, и в город шёл автобус один раз в день туда и один раз вечером обратно. И вот они очень много дней ждали этого дня, когда они выйдут на остановку, какую-то денежку накопили для города. И они идут к остановке, представляете, — а автобус уже вдали. То есть он приехал на несколько минут раньше и уехал уже. Это страшное разочарование, досада, они стоят, плачут на этой остановке и, какое-то время спустя проезжает какой-то грузовик и подбрасывает их до города. Но времени уже мало до следующего автобуса, всё равно всё испорчено, настроение испорчено, ничего не успеем. Доехали просто формально до города, и тут они видят тот самый автобус, на который они не успели. Кость, ты помнишь, да, эту историю?
К. Мацан
— Я догадываюсь, чем она закончится.
А. Леонтьева
— Мне кажется, даже мы с тобой вели эту программу. Они ещё, знаете, говорят: «Вот мы сядем впереди за водителем, будем смотреть...», когда долго никуда не ездишь, сама поездка — это уже праздник. Вы знаете, я не помню точно, что произошло. Помню, что на автобус что-то упало, типа бетонной какой-то плиты. То есть произошла какая-то чудовищная авария, и они увидели этот автобус, практически разрубленный напополам, и это переднее сидение и вот эта бетонная плита... И наша Елена, которую мы так назвали, сказала: «Мне больше ничего не надо объяснять. Когда чего-то не происходит, я говорю: «Слава Тебе, Господи!» и живу дальше. Вот такое впечатление на нее это произвело. А вторую историю неожиданно я услышала от молодого человека: к дочери приехали друзья, он услышал, что мы будем обсуждать и рассказал тоже удивительную историю, но совершенно по-другому она на него подействовала. Он с детства мечтал работать в силовых структурах: быть военным, ловить преступников, шпионов, вот это всё. Он поступил в какое-то училище, где на это дело учат, и там очень большой акцент был на спорте, естественно. И вот он как-то бежал, сдавал норматив какой-то и ему стало очень плохо. Его доставили в больницу, положили под капельницу, что-то плохо с сердцем, врачи ушли, он остался в палате, а с ним сосед лежал в наушниках и смотрел какой-то фильм. И тут он чувствует, что начинает умирать, что сердце останавливается, и он уже ничего не может сказать. А сосед его просто не видит в упор, но ему удалось чуть-чуть рукой скинуть стакан, который стоял рядом с ним, и сосед позвал врачей, а он уже практически умер и полторы минуты находился в состоянии клинической смерти. Он рассказывает, что увидел себя со стороны, он даже показал, говорит, там как будто камера такая, и я через камеру на себя смотрю...
А. Пичугин
— И врачи стоят, склонившись.
А. Леонтьева
— Да-да-да, полторы минуты, пока ему не вкололи, по-моему, адреналин, и он вернулся. И, знаете, он не стал военным, и не стал ловить больше преступников и шпионов, это понятно. На него это произвело такое впечатление, что он стал учиться на врача. Дальше происходит следующий диалог, он говорит мне: «Я начал спасать людей потому, что мне показали, как внезапно конечна жизнь». И я отвечаю ему: «А тебе не кажется, что тебе показали, как она бесконечна? Потому что ты как бы вышел, ты умер, но ты видел себя со стороны. Для меня это очевидная ситуация». Он говорит: «Нет, мне врач объяснила, что перед тем, как умереть, мозг создает некие галлюцинации, чтобы было комфортно умирать. Это была такая вот галлюцинация».
А. Пичугин
— Да, это известное научное объяснение этому феномену. Понятно, что наука не может зафиксировать всё, что находится по ту сторону мониторов. И так как этот рассказ у очень многих вернувшихся после клинической смерти, не у всех, кстати говоря, но у многих. Есть исследования на эту тему, но наука объяснить это не может. Сказать, что это Божественное проявление, уход человека к Богу, в вечную жизнь, как угодно, наука не может по понятным причинам, поскольку тут нет предмета исследования, но нужно как-то объяснить попробовать, то есть гипотеза, что это вот мозг таким образом...
К. Мацан
— Просто есть научное объяснение, есть личностное. Наука исследует законы материи и может сказать, что в мозгу происходило в момент клинической смерти. Но это совершенно не объясняет, чем это станет в опыте личном для человека в его сознании. То есть, сказав, что в момент такого происходящего какие-то процессы происходят в мозге, мы совершенно ничего не отменили тем самым. Мы просто объяснили то, что происходит на уровне материального субстрата, а то, что происходит на уровне сознания — это просто параллельная история, потому что мы психосоматические существа, мы не духи бестелесные. Всё, что происходит в духе, в душе, сопровождается некими процессами и коррелируется с процессами в мозге, тут нет никакого противоречия. Если у человека, пережившего такой опыт, как бы он научно не был объяснён, в его личном восприятии сознания это стало каким-то переживанием чего-то, то тут совершенно научное объяснение не устраняет это переживание, оно просто объясняет его материальную подложку.
А. Леонтьева
— Но, вы знаете, интересно, что у парня две бабушки и обе верующие очень. И после этого случая, после его клинической смерти к вере пришла его мама. Она, пережив это, стала верующим человеком. А он говорит: «Ань, ты знаешь, перед смертью мне же всё покажут». И я говорю: «Слушай, а вдруг это будет уже поздно?» Тут я так пытаюсь, делаю попытки катехизации. И он говорит: «Это мысль, которую я очень часто слышу от молодых людей: если я буду жить по совести, то всё же будет нормально?». Тут я не знаю, чем крыть, ребята.
А. Пичугин
— Мы здесь сегодня рассказываем истории о том, как что-то не сложилось, но это изменило человека или это придало какой-то новый импульс его жизни, или, может быть, человек строил какие-то планы, а вот получилось совсем иначе, но получилось именно так, как должно было быть. Видите, у нас сегодня такая достаточно широкая вариативность. Рассказываем эти истории здесь мы — Анна Леонтьева, Константин Мацан, Алексей Пичугин и наш гость, отец Григорий Крыжановский, протоиерей, клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших в Новокосино, и мы скоро вернёмся, никуда не уходите.
А. Пичугин
— Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что здесь, сегодня вы нас можете и смотреть, и слушать на нашем сайте radiovera.ru и в нашем сообществе «ВКонтакте» наши истории о том, как кто-то строил планы, они не сложились, но вот так, как случилось, произошло, действительно, во благо. Или, может быть, это совсем как-то изменило жизнь человека, он всё переосмыслил, и всё стало по-другому. А может быть, просто всё получилось так, что ты не можешь на это смотреть иначе, как на какой-то Промысл, который всегда с тобой. Костя, твоя история.
К. Мацан
— Я прошу прощения, она будет светлой. (смеются). И она будет не про больницу. Хотя это как-то уже не в тренде нашей сегодняшней программы.
о. Григорий
— Про автобус, мне кажется, очень светлая история.
К. Мацан
— Да, да, безусловно. Но там тоже есть трагическая нота, мы этому дань, безусловно, отдали в своё время. Но когда я про нашу сегодняшнюю тему подумал, я почему-то вспомнил историю реально из моей жизни. По-моему, я её ещё не рассказывал в «Светлых историях», но она очень яркая для меня была. Но, знаете, вот эта история по отношению к нашей теме — перевёртыш. Это вот не то, когда «хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах», а про то, как Бог смеётся и стучит тебя по голове, чтобы ты сам свои планы выполнял. История была такая: несколько лет назад мы собирались ехать с семьёй в отпуск в Турцию, причём в осеннем месяце, потому что так дешевле, менее жарко, дети ещё были не в школе тогда и можно было поехать. И, как это всегда делается в таких ситуациях, сильно заранее (так тоже дешевле) бронировали тур. И где-то примерно в июле я оплатил эту поездку, а лететь мы должны были в октябре. И вылет был, это важно: в воскресенье. И в пятницу, накануне вылета, за два дня, в шесть утра, со мной такого никогда раньше не было, ты вдруг просыпаешься от того, что тебе в голову пришла мысль...
А. Пичугин
— Что не надо никуда ехать?
К. Мацан
— Нет. Нас четверо, и у дочки Серафимы нет загранпаспорта.
А. Леонтьева
— Класс.
К. Мацан
— Потому что это был её первый загранпаспорт, и мы решили, что оформим его ближе к поездке. Маленький ребёнок, а ей тогда было около двух лет. То есть мы решили, что лучше делать фотографию поближе к выходу паспорта. И вылет в воскресенье, в пятницу утром я просыпаюсь с мыслью: а есть ли у Серафимы загранпаспорт? То есть я почему-то июль, август, сентябрь, три месяца просто об этом не помнил, и именно в этот день мне кто-то эту мысль в голову послал.
А. Пичугин
— А как ты билеты купил?
К. Мацан
— Это тоже часть истории, это всё завязано в один узел, всё сошлось. Билеты покупало турагентство и им нужно было просто вписать имя потом в эти билеты, они буквально накануне вылета нам их присылают, такая процедура есть, и она тоже свою роль сыграла. Я просыпаюсь в ужасе, бужу супругу: «У нас нет загранпаспорта у Серафимы!» И дальше мы гуглим, как сделать загранпаспорт за сутки. Там первый сайт: «услуга загранпаспорт ребенку за сутки», там 500 евро, условно говоря. Второй какой-то мудрый сайт: «бегите в МФЦ ближайший, бросайтесь в ноги и просите, чтобы вам сделали». Я беру Серафиму с собой, ребенок в ужасе, его куда-то тащат, прибегаю в этот МФЦ и говорю девушке, которая помогает людям оформлять эти бумажки: «Так, у меня ситуация такая: нам послезавтра вылетать в Турцию, а у меня нет паспорта у ребенка». Она: «Как так?» Говорю: «Я идиот! Поймите, я за три месяца забыл это сделать, всё. Как это сделать теперь?» — «Ну, типа, идите вот в окошко».
А. Пичугин
— Странно, что уже даже до этого дошло.
К. Мацан
— А это пятница. Они работают пятница, суббота — утро, и всё. Я подхожу: «Здравствуйте. Я идиот, поймите вот так получилось...» — «Ну как вы могли?..» — «Всё, проехали, как это сделать?!» — «Хорошо, напишите всё же заявление и надо фотографию». Ребенку два года, она не влезает в будку, где фотографируются, там нужно сесть, но ребенок маленький, он ниже камеры, а никого в кадре кроме неё, быть не должно. Я с одной стороны ее держу, мне помогает девушка из МФЦ с другой стороны и в этом паспорте у Серафимы такая фотография с выражением лица: «Боже мой, куда вы меня тащите?» Вот, сделали фотографию, отдали документы. И мне тётечка в окошке говорит: «Мы сейчас их передадим на второй этаж в отделение МВД, там их должны рассмотреть». Я говорю: «А вы можете туда позвонить и сказать, чтобы они вот как-то учли ситуацию?» Знаете, для меня это вообще не свойственно, я очень человек застенчивый и когда мне надо просить кого-то, я так боюсь этого ответа из серии: «Вас много, я одна, что вы лезете, закон есть закон, надо было раньше думать!..» Я вот просто готов со стыда сгореть, лишь бы этим не заниматься. А тут делать нечего, у меня глаза вот такие, я говорю: «Позвоните, пожалуйста, туда». Сорок минут ждём. Говорит: «Хорошо, ваши документы туда передали, идите теперь туда в очередь». Я иду туда в очередь, в окошко говорю: «Здравствуйте! Я идиот, понимаете, вот как-то так получилось, что я три месяца не помнил и только сейчас вспомнил, вот так бывает...» Вот так я по этим кругам мотался и мне в итоге говорят: «Хорошо, мы ваши документы взяли, завтра приходите с утра, будет человек на месте сидеть, если он навстречу пойдёт, то он вам завтра все и сделает» А завтра суббота, но у них есть смена, в субботу в первой половине дня они работают, но нужно, чтобы был человек, который пошёл бы на встречу. Мы там как-то молимся, как можем, приходим на следующее утро. Я эту всю повторяю мантру про то, что я — герой романа Достоевского, всё вот это: «как это так получилось?» И в итоге паспорт нам делают, идут навстречу. Причём знаете, такой человеческий момент: мы всё это объяснили, и сотрудник говорит: «Я могу сейчас вам паспорт напечатать, вклеить фотографию, заламинировать, через автомат пропустить, то есть сейчас будет паспорт, бланк, номер, всё. Но мне же, нужно, чтобы начальник подписал, а начальник только в понедельник будет, а я без его подписи не имею права отдать». Причем, они это все с коллегой обсуждают, и он так: «Ну, задним числом подпишет, что был паспорт такой». Короче, мы улетели на этот отдых, слава Богу, в эту Турцию, отдохнули.
А. Пичугин
— Это невероятная история.
К. Мацан
— Да, но вот вопрос: кто мне в пятницу утром послал эту мысль в голову, да?
А. Пичугин
— Сквозь сон пробралась.
К. Мацан
— Вот кто меня разбудил этой мыслью? Не знаю, может быть, опять научное объяснение будет, что как-то вот нейроны так действовали, и что-то в итоге сложилось, но у меня нет другого объяснения. Когда три месяца ты об этом не помнил, Господь терпел до последнего, чтобы ты уже в эту свою Турцию с семьёй поехал, чтобы время с семьёй провёл — ты сделай, вспомни и пересиль себя. Но был ещё маленький такой любопытный эпизод: потом надо было менять загранпаспорт старшему ребёнку, и я подумал: хорошо бы поскорее поменять и не провернуть ли ещё раз такую же операцию? Но, видимо, поскольку ужаса в моих глазах уже не было такого, а сыграть это я не мог, нам вежливо сказали, что «две недели ждите паспорт, всё в порядке». Так ставки не были задраны, и Господь не послал тех людей в нужных местах, которые бы тебя поддержали. У меня вот такая история.
А. Леонтьева
— Потрясающе.
А. Пичугин
— У меня была как раз обратная история с загранпаспортом моим, который уехал на переоформление, потому что срок истёк и новый паспорт должны были выдать к определённому времени. А мы тоже должны были улетать, в итоге мы улетели в другое время, позже, не туда, куда хотели, только потому, что ещё там действовал мой старый паспорт, по нему можно было. Это же известная история, когда срок загранпаспорта истекает, есть много достаточно стран, куда с ним нельзя там за полгода, за восемь месяцев, за девять, надо смотреть конкретные страны. И когда я вернулся и пошёл получать паспорт, который уже по всем срокам был готов — естественно, мне пришло сообщение, что «ваш паспорт готов» ровно в тот день, когда он по закону должен был быть готов. Когда мне его выдали, и я расписывался во всех бланках, то увидел, что и подпись начальника стояла, и всё на свете стояло дней через четыре-пять после того, как я подал документы, то есть всё могло произойти по-другому, но вот получилось именно так. Опять же, может быть и хорошо, что мы не уехали туда, куда планировали, и паспорт поменялся.
о. Григорий
— Мне кажется, у нас у всех есть история с паспортом. У меня жена получила паспорт, выходит, я говорю: «Ну и как там написано?» — «Вот так-то». Я говорю: «И ты расписалась здесь?» — «Да». Я говорю: «Какой ужас, у меня в паспорте в отметке „женат“ другое имя, ты что творишь?» — А разве есть разница?" Я говорю: «Ещё какая разница!» И мы поехали в этот же день, и нам на следующий день выдали паспорт, но ошибка была сотрудника. Всё мгновенно было переделано, но сутки ушли на это, конечно.
А. Пичугин
— У меня товарищ весь свой первый паспорт, сколько лет он длится, жил с неправильно написанным отчеством, которое для него стало уже таким своеобразным прозвищем. Он стал известным учёным и даже в научных кругах его порой знают по этой детской ошибке в паспорте, потому что эта история там везде разошлась и вот это неправильное отчество стало его псевдонимом, ником, как угодно.
А. Пичугин
— Друзья, мы рассказываем истории о том, как рушились планы, о том, как всё менялось, и как всё менялось ко благу, может быть, не всегда ко благу, а всё происходило так, как было задумано где-то и не нами, но повлиять на это мы не могли, а может быть, то, что произошло, нас к чему-то подвигло, как-то изменило. Рассказываем мы, протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма Всех святых в земле Российской, просиявших в Новокосино в Москве, Анна Леонтьева, Константин Мацан и я, Алексей Пичугин, а вы нас и слушаете, и смотрите на сайте radiovera.ru, а также в сообществе «Вконтакте». Я расскажу свою историю, она, сразу хочу сказать, очень-очень печальная. Тут нет, наверное, какого-то поучительного завершения, просто у меня череда была похожих историй, я все не помню, я помню эту, поскольку я её никогда не забуду. Подобных историй, как всё менялось накануне непонятно почему, было много, но, когда я пытался вспомнить похожие, только эту помнил, хотя она двадцать лет назад произошла. Я, кажется, рассказывал в наших «Светлых историях» про период своей церковной юности, воцерковления и про храм подмосковный, куда я ходил много лет, ещё даже в школе туда ездил по субботам, когда сам к вере осознанно пришёл, и там познакомился с отцом Александром, которого, пожалуй, могу назвать своим духовником до сих пор, хотя человека нет уже двадцать лет. Мы несколько лет очень-очень дружили семьями, ходили друг к другу в гости, приезжали к нему домой постоянно, такой приход у нас был очень дружный, я, пожалуй, второго такого тогда и не знал, и потом не знал, мы жили почти одной семьёй все. И нас объединяло то, что отец Александр был совершенно неординарный человек, который, казалось, уже к тому моменту прожил тысячу жизней, хотя ему было шестьдесят четыре года всего, и это был такой человек могучего, абсолютно богатырского сложения и здоровья, что, казалось, он ещё тысячу жизней проживёт. В храме там три придела было, и наступал престольный праздник одного из приделов храма, и престолов, я собирался туда ехать. Уже к тому времени я каких-то друзей возил в Никулино, знакомил с отцом Александром, уже кто-то и сам ездил. И вот мы какой-то компанией собираемся поехать и накануне с отцом Александром созваниваемся, обсуждаем какие-то вещи по службе и что-то ещё обсуждаем, и тут мне вдруг подряд все мои друзья, с которыми я собираюсь ехать, начинают звонить и говорить: «Слушай, что-то не складывается». Даже странно, уже думал: ну кто следующий теперь позвонит, ну не может быть, чтобы все разом отказались! Ведь люди не то что там сговорились, они друг друга знают постольку-поскольку, просто у всех вдруг возникли какие-то обстоятельства непреодолимой силы, почему они поехать не могут. Ну и в итоге: ладно, Бог с вами, еду один я, с утра приезжаю, а отец Александр рано всегда приезжал. И я ставлю машину, а его нет — странно. И вдруг мне звонят и говорят, что он погиб в автокатастрофе по дороге, собственно, на эту службу. И для меня мир перевернулся с тех пор, не было дня, чтобы я отца Александра не вспоминал, и про него я уже рассказывал много раз здесь, в «Светлых историях». Но это вот коротенькая история о том, что это невозможно объяснить какими-то совпадениями, чтобы у нескольких человек вот так, вдруг возникли какие-то свои планы потому, что мне в тот момент, наверное, последнее, что хотелось — это видеть там своих близких очень друзей, но это совершенно не те люди, которые мне в тот момент были нужны рядом. Если бы они поехали, это началась бы какая-то суета, объяснения, разговоры, а это всё-таки достаточно отдалённый приход, куда добираться без машины, можно только автобусом и электричкой, неудобно, кто бы там кого куда отвозил. Слава Богу, что вот именно так в такой тяжелейшей ситуации сложилось, но для меня это абсолютно неспроста всё было. Такая история.
А. Леонтьева
— Ну, знаешь, мне кажется, вот эта история, она не только о том, почему все отказались, а вообще вот этот неожиданный уход очень близких людей как бы настраивает нас на то, что не то что там планы не строить, а просто всегда к ним как можно больше обращаться. Я твою историю про отца Александра очень запомнила, она такая пронзительная.
А. Пичугин
— Я бы, наверное, не хотел, чтобы наша программа заканчивалась на печальной ноте.
о. Григорий
— Но история, наверное, не печальная.
А. Пичугин
— История, наверное, не печальная сама по себе, но всё равно любая история, связанная с уходом человека, она личная. Мы периодически спорим с моим очень-очень близким другом, когда я ему говорю об очередном священнике, что «вот, такой-то умер, представляешь?» А друг говорит: «Ну, а что? Так человеку же лучше теперь. Что ты вообще за него переживаешь?» И вот я до сих пор считаю, что смерть — это всегда... Нельзя так рассуждать, что «ему-то теперь лучше», вот я с этим в корне не согласен, потому что мы даже из Евангелия помним, когда Спаситель молился в Гефсиманском саду: «Пронеси чашу сию мимо меня» и страх смерти, и плакал по Лазарю, а уж Он-то знал, что там, за пределами, и всё равно Он плакал. Этому можно множество причин найти и всё равно мы точной причины не будем знать. Я хотел бы ещё одну историю рассказать, она не моя, это история от наших слушателей, она очень трогательная и меня, действительно, по-доброму удивила. Кстати, вы пишите, друзья, нам свои светлые истории. Пишите нам то, что вас трогает, что вы в своей жизни переживаете и чем готовы поделиться. Мы говорим, что у нас самые искренние истории в нашей программе, но понятно, что далеко не всем мы можем делиться, далеко не всё мы можем здесь вот так, напоказ рассказывать. А вот эта история из тех, которые хочется рассказать.
А. Леонтьева
— Где ты, кстати, взял эту историю? Потому что я очень прошу наших дорогих радиослушателей, радиозрителей: присылайте свои истории в группу «ВКонтакте», нам их очень не хватает.
А. Пичугин
— Пишите в сообщество «ВКонтакте», пишите на почту [email protected]. Мы эти истории ищем, ждём, читаем и по возможности рассказываем. История эта произошла не в России, это было в Сербии в феврале 2021 года. Роддом в Белграде. «После полудня я лежала, — пишет женщина, — на своей больничной койке, счастливая, что родила нашего третьего ребёнка, сыночка. После меня в палату привезли новоиспечённую маму и завязался оживлённый разговор. Я спрашиваю: «А кого ты родила?» Она говорит: «Маленькую Машу». — «У меня тоже есть старшая доченька Маша, а полное имя Мария». — «А мы хотели, чтобы полное имя было Маша, чтобы звучало по-русски. Я и старшему сыну дала имя Алёша». Ну, понятно, что дело происходит в Сербии и собеседница нашей героини, она не совсем сербка, у неё есть русские корни, но она родилась и живёт в Сербии. «У меня бабушка русская, поэтому я хотела, чтобы имена детей напоминали им о русской прабабушке». — «Ого, и моя мама русская, как ты меня порадовала! А как твоя бабушка оказалась в Сербии?» Это длинная история: бабушка в детстве вместе с семьёй во время войны оказалась в немецком лагере, где их всех разделили. И в итоге, когда её освободили из лагеря, она никого из родных найти не смогла и думала, что все погибли. В лагере она познакомилась с молодым человеком, сербом, они полюбили друг друга, и потом уже, после того, как их освободили, поехали в Сербию и начали там новую жизнь, создали семью, родились дети, и потом уже появились внуки. Однажды на пешеходном переходе на площади Славия в Белграде её кто-то окликнул по имени, отчеству и девичьей фамилии на чисто русском. Она вздрогнула и увидела пожилого мужчину, и оказалось, что это был её родной младший брат.
А. Леонтьева
-Ничего себе.
А. Пичугин
— Он был в Белграде в командировке и узнал её по особенному дефекту: сросшемуся мизинцу и безымянному пальцу. Ну, действительно, все-таки редкая особенность, и у брата её как-то случайно взгляд упал, и он вспомнил. Это была очень трогательная встреча спустя полвека, когда люди не знали после печали, боли от утраты семьи, что чудом большая часть семьи выжила, они вернулись в Россию, где все воссоединились, а вот эту девочку, они думали, что навсегда потеряли. И с той судьбоносной встречи они стали собираться всей семьёй раз в год в Сербии и раз в год в России. И вот резюме нашей зрительницы, слушательницы — это для меня свидетельство Божьей любви, которая никогда не прекращается, всегда заботится о нас и никогда нас не оставляет.
А. Леонтьева
— Какая прекрасная история... Она затмила все наши истории.
А. Пичугин
— История действительно чудесная. Кустурица бы, наверное, мог красиво это снять.
о. Григорий
— Видите, не хочется даже называть это дефектом, это особенность. Может быть, носительница этой особенности какое-то время расстраивалась по этому поводу, а Господь так утешил, всё переиграл.
К. Мацан
— Вот к вопросу об особенностях. Мне рассказывали историю про то, как женщина решила порадовать мужа. Они были много лет уже в браке, и у женщины был, как мне рассказывали, такой особенный прикус. Не знаю, была ли это заячья губа или нет, но вот были такие длинные передние зубы, как-то чуть длиннее пропорции, такие немножко выступающие. И она решила их как-то хирургически у стоматолога-хирурга подкоротить, чтобы стать совсем красивой, чтобы для мужа быть красавицей. И когда пришла домой, муж расплакался. Говорит: «Ты что, я тебя за эти зубы полюбил! Как же ты так?»
А. Пичугин
— Могла обидеться: «Ах, так! Только за зубы!» (смеются)
К. Мацан
— Но там всё-таки история была не про обиду, я уверен, что муж её любил дальше и такой. Это к тому, что иногда то, что мы в себе считаем нуждающимся в исправлении, ближние с этим там сродняются, для них это какая-то наша любимая особенность, а не порицаемая.
о. Григорий
— По этому поводу даже есть хорошая пословица: «если хочешь узнать о себе всю правду — спроси у друзей».
К. Мацан
— Тут скорее такое, что они всю правду о тебе нелицеприятную расскажут. А здесь я просто знаю, что бывают подростки, особенно девочки, что «вот, я там не такая, некрасивая, у меня большой нос», что-нибудь еще такое, себя не принимают. И когда родители им искренне говорят: «Да ты что, это твоя изюминка, это красиво, да за твой нос парни будут штабелями лежать» — она в какой-то момент не верит. Должно пройти время, чтобы она убедилась в мудрости и правильности родительских слов, потому что они были сказаны из опыта.
А. Пичугин
— Ну и действительно, ведь время меняет черты лица и то, что ребенку кажется чем-то не таким, да даже, может, и родителям иногда кажется. Они, конечно, любимого ребенка успокаивают, но сами так думают. А потом раз — и всё, и нет этого, и как-то время все исправило. Человек растет, и черты лица, форма меняется.
о. Григорий
— Я помню потрясающая была история: митрополит Антоний Сурожский рассказывал про то, как у него был знакомый, который был очень высоким. Вот я реально недавно такого увидел в метро: человек, которому, чтобы войти в вагон, нужно нагнуться, там под два метра рост, такой красивый, статный мужчина. Ну вот такая конституция. Я сразу вспомнил историю владыки Антония, как он рассказывал, что вот был такой высокий человек, который очень комплексовал по поводу своего роста и даже к нему подходили детишки, которые были помладше, но были сильно ниже его и спрашивали: «Дядя, тебе там не скучно одному наверху?» И он не любил эту свою черту, но он её совершенно переоценил во время Второй мировой войны, когда на фронте за ним могли укрыться двое. Он был высокий, широкоплечий и мог, благодаря своему росту, прикрывать других. Это вот тоже такой пример, когда особенность становится чем-то, что ты начинаешь ценить, но вот уже в таком очень высоком христианском смысле.
А. Леонтьева
— Я ещё хочу сказать, про дивную историю, которую ты прочитал от радиослушательницы: когда ты такое читаешь, просто немеешь от осознания, что Господь вот такую меточку оставил, и вот по этой метке человек нашёл снова свою семью. Это значит, что Господь знал на много шагов вперёд, как это всё сложится.
А. Пичугин
— В этом даже можно было и не сомневаться.
А. Леонтьева
— Да-да-да. Но от этого просто действительно немеешь. Спасибо большое.
К. Мацан
— Мы просто об этом забываем, а вот такие истории, они напоминают, что у Бога Промысл никогда не прекращается.
А. Пичугин
— Протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших в Новокосино в Москве, Константин Мацан, Анна Леонтьева и я, Алексей Пичугин, рассказывали здесь светлые истории: истории о том, как рушились планы, как менялся мир у человека, но это вдруг происходило во благо или так меняло человека, что уже возврата к прежней жизни не было, или, может быть, всё произошло вот как-то очень непонятно, но ты осознаёшь, что совсем неспроста. Спасибо вам. Слушайте нас, смотрите нас и встретимся с вами, по крайней мере, в видеоформате в следующий понедельник в шесть вечера. Всего доброго.
К. Мацан
Всего доброго.
о. Григорий
— До свидания.
А. Леонтьева
— Всего доброго.
Все выпуски программы Светлые истории
При поддержке VK
«Иконография Рождества Христова». Ирина Языкова

Ирина Языкова
Гостьей программы «Светлый вечер» была искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова.
Разговор шел об особенностях изображения на иконах сюжета Рождества Христова, какие смыслы в них закладываются и как их увидеть.
Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.
Первая беседа с киноведом Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)
Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рождественским мотивам в литературе (эфир 30.12.2025)
Третья беседа со священником Александром Сатомским была посвящена христианскому взгляду на празднование Нового года (эфир 31.12.2025)
Ведущая: Алла Митрофанова
Все выпуски программы Светлый вечер
«Работа и отдых». Алексей Горячев

Гостем рубрики «Вера и дело» был предприниматель, инвестор Алексей Горячев.
Мы говорили о том, как правильно отдыхать и как использовать возникающее свободное время на пользу и саморазвитие.
Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова
Все выпуски программы Вера и дело
«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash
Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.
Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров
Все выпуски программы Духовные этюды