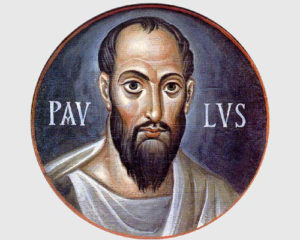Гостем программы «Исторический час» был доктор исторических наук Сергей Алексеев.
Разговор шел об истории города Киева в средние века.
Ведущий: Дмитрий Володихин
Д. Володихин
— Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это Светлое радио, Радио ВЕРА, в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы поговорим о древнерусском городе Киеве, причём в ту эпоху, которая, на мой взгляд, является наиболее тёмной в исторической судьбе Киева. Древний Киев был городом, который формировался. В девятом, десятом, даже одиннадцатом веке это город растущий, не до конца ещё испытавший свои пределы. В двенадцатом, несмотря на все сложности, —цветущий огромный средневековый мегаполис. Потом на него начинают валиться проблемы одна за другой, тяжёлые удары, и Киев погружается во тьму на какое-то время. Последствия он более или менее восстанавливает, но до какой степени? Был ли он равен древнему цветущему Киеву времён Единой Руси или нет? Вопрос сложный. Сегодня по закоулкам истории города Киева нас будет водить доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Радетель» Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте.
С. Алексеев
— Здравствуйте.
Д. Володихин
— Ну что ж, начнём с того момента, когда Киев вышел на пик своего развития, это, наверное, двенадцатое столетие. В политическом плане всё было не так здорово, но в смысле развития этого города, обретением колоссального масштаба, богатства и так далее, всё складывалось лучше. Условно говоря, у Киева лучше, чем у всей Руси.
С. Алексеев
— Ну, в принципе, да, хотя это вопрос сложный. В двенадцатом веке очень меняется это соотношение. Русь в одиннадцатом веке в значительной степени уступала свои ресурсы развития Киеву и отчасти Новгороду, но начали появляться отдельные княжества, которые развивались уже более-менее самостоятельно, и чем дальше, тем меньше делились с Киевом своими ресурсами. Вот это превосходство Киева начинает понемногу уходить в прошлое, даже несмотря на то что до середины двенадцатого века Киев — ещё растущий, действительно, город и богатый город, перекрёсток торговых путей, хотя, может быть, в меньшей степени, чем на заре Древнерусского государства. И, в общем, мегаполис, как вы сказали, в котором представлены самые разные народы и даже самые разные религии, вплоть до того, что служащие Киеву печенеги-мусульмане имели собственный молитвенный дом. Уникальная ситуация на Руси. То есть это был действительно большой, очень населённый и пёстрый город по своему лицу, не ровня, конечно, Константинополю, но, наверное, превосходящий некоторые западноевропейские столицы того времени.
Д. Володихин
— Ну что ж, очень большой город, очень богатый город. Давайте попробуем определить, есть ли какие-то параметры, есть ли какие-то границы Киева, который в середине двенадцатого века оказался фактически в высшей точке своего развития?
С. Алексеев
— Границами, которые мы уверенно можем провести, являются линии городских укреплений. В южной части города — это Город Ярослава, там Киев дальше на юг фактически распространялся, потому что на поле возникали новые предместья и были внешние укрепления, которые прикрывали город с юга, но это всё-таки был не, собственно, град. А вот северная и центральная часть, там, где располагался Подол, она как раз в это время защищается новыми поясами укреплений, на севере появляются новые валы, и Киев в это время, наверное, раза в два больше, если считать по этим линиям укреплений, по тому, что уже считалось Киевом в это время, чем он был во времена Ярослава Мудрого.
Д. Володихин
— То есть, условно говоря, он растёт быстро, и мы можем судить о его росте твёрдо по той территории, которая окружена укреплениями, но мы понимаем, что есть предместья, которые тоже, собственно, часть города, и где там они превращаются в отдалённые сёла, понять сложно, поскольку застройка идёт далеко за пределы стен.
С. Алексеев
— Кроме того, к городу примыкает целый ряд монастырей со своими угодьями, Киево-Печерская Лавра, в первую очередь.
Д. Володихин
— Михаил Златоверхий, он рядом или он в Киеве?
С. Алексеев
— Ну, собственно, они все считались киевскими монастырями. Киево-Печерский монастырь для XII века уже рассматривался как часть города.
Д. Володихин
— Ну, понятно. А хотя бы приблизительно, есть ли подсчёты населения Киева в XII веке? Мы понимаем, конечно, что не существует источников, которые хотя бы более или менее точно могут определить, но есть же оценки специалистов, хотя бы и очень условные?
С. Алексеев
— Ну, город раскопан хорошо, но не настолько, чтобы полностью представить структуру заселения, и действительно письменных источников, которые хотя бы косвенно на это указывали, нет. Но понятно, что это десятки тысяч человек, если не шестизначные суммы уже для этого времени.
Д. Володихин
— То есть, если мы сравниваем с Москвой Ивана Грозного или Алексея Михайловича, Киев будет меньше?
С. Алексеев
— Ну, естественно, да. Это ещё не город раннего Нового времени, это средневековый город.
Д. Володихин
— Но если мы сравниваем с Владимиром, Черниговом, скажем, Новгородом, Смоленском, то он будет больше?
С. Алексеев
— Да, но, повторяю, тут мы всё-таки не очень можем судить. В принципе, если брать с предместьями, то да, наверное, это очень большие уже цифры для Руси. Наряду с Новгородом это один из двух крупнейших городов.
Д. Володихин
— Ну хорошо, мы говорим о том, что этот город богат. Что служит доказательством? Да, известно, что он находится на перекрёстке торговых путей, и один уже Днепровский путь — это само по себе очень значительное подспорье для развития экономики. Но есть ли какие-то ещё факты, показывающие, что город богат?
С. Алексеев
— Постоянное проживание иноземцев, занимавшихся торговлей.
Д. Володихин
— Ну да, тут не поспоришь.
С. Алексеев
— Причём, как просто иноплеменников (например, еврейская община), так и иноземцев, которые приезжают с Запада, то есть латинские фряжские купцы в Киеве жили в середине XII века, у них была там какая-то своя территория. Понятно, что они, наверное, сменяли друг друга, но были там постоянно. Есть масса прямых свидетельств о торговле в Киеве, о богатстве городской общины, сами возможности для церковного и монастырского строительства. В Киеве были многие десятки храмов, и не только домовых церквей при усадьбах, на что часто указывают, когда эти цифры приводят, что вот, были домовые церкви при усадьбах знати, но и настоящих храмов, и обширнейшие монастыри.
Д. Володихин
— Да, монастыри, может быть, прежде всего.
С. Алексеев
— И всё это, конечно, требовало средств у ктиторов и у самой церкви, но, естественно, эти средства поступали от того хозяйства, которое велось на Киевской земле и в самом городе. Наконец, не надо забывать в этой же связи, что Киев оставался церковной столицей Руси, это была резиденция митрополита. И, естественно, что даже когда дань киевскому князю уже перестала быть обязательной, взносы в пользу митрополита не прекратились, и в Киев всё равно продолжали поступать средства от епархий русских как в качестве обязательной поддержки митрополии, так и в порядке дарений и вкладов. Поэтому, естественно, Киев был богат, Церковь в Киеве прочно стояла на ногах, знать киевская была богата, князья недаром стремились на Киевский престол.
Д. Володихин
— Ну, некоторые стремились, некоторые — уже нет, но об этом мы поговорим попозже. Даёт ли нам археология какие-то красивые находки того времени, которые подтверждают ваши слова?
С. Алексеев
— Ну, конечно. Киев был важнейшим центром ремесла, но это не в XII веке, сложилось, а уже в XI веке, и есть огромное количество находок, ремесленных изделий, в том числе художественного ремесла, дорогого ремесла, вещи, которые делались из драгоценных металлов с применением как заимствованных из Византии, так и уникальных для самой Руси техник — чернения, например.
Д. Володихин
— И всё это находят археологи?
С. Алексеев
— Да, это регулярные находки археологов, для домонгольского Киева достаточно типичные. Более того, мы имеем представление о том, что эти ремесленные изделия распространялись и по всей Руси. Естественно, в Киеве очень много монетных находок.
Д. Володихин
— А какие? XII век — безмонетный период, что они там находили?
С. Алексеев
— Монеты иностранные, они всё ещё встречаются, западноевропейские, в частности. Монеты Западной Европы, Византии, Востока в это время уже реже, но они ещё встречаются. В XI веке, конечно, их больше, есть ещё там полноценные весомые клады, но в XII веке ещё встречаются. Не в таком обилии, как, допустим, в Новгородской земле, но они есть.
Д. Володихин
— Богатый город Киев изготавливал собственные платёжные средства — тяжёлую шестиугольную серебряную гривну.
С. Алексеев
— Да, как раз хотел перейти к платёжным слиткам, которые тоже, естественно, в Киеве и Киевской земле встречаются довольно часто. И действительно, киевская гривна распространялась именно из Киева.
Д. Володихин
— Ну хорошо, в принципе, всё то на Руси, что сохраняло шаткий политический мир, что предотвращало междукняжеские войны, рухнуло в середине 30-х годов XII века. Мы пока не будем добираться до первого разгрома Киева, который сотворили не монголы, а соотечественники, но, тем не менее, вот 30-е, 40-е, 50-е — это ведь время, когда междукняжеские распри уже должны были ударить по городу, или я преувеличиваю?
С. Алексеев
— Конечно, вы не преувеличиваете. В 1132 году, после смерти князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха, по определению одного из новгородских аристократов, поехавшего на юг разбираться, чего на Руси вообще такое происходит, попавшему затем в летописи, «разодралась вся русская земля». Ударение, кстати, в этом слове можно ставить по-разному — «разодра́лась» тоже будет правильно. «Раздрася», строго говоря, по-древнерусски. То есть, в общем, действительно начались усобицы, которые новый князь Ярополк Владимирович, хотя сын того же славного отца, не смог утишить. Более того, распря возникла и среди самих Мономашичей, которые передрались за второй по значению город Киевской земли, центр Левобережья — Переславль. И, собственно, вот с этого, и с того, что в распри Мономашичей начал включаться конкурирующий с ними род черниговских Ольговичей, начался упадок политического значения Киева.
Д. Володихин
— Но пока ещё не разорения.
С. Алексеев
— Нет. Окраинные княжества вроде Галицкого или Полоцкого перестают считаться с Киевом постепенно. В Полоцк, например, возвращаются когда-то сосланные Мстиславом Великим, депортированные им в Константинополь полоцкие князья. А в 1139 году, когда умирает князь Ярополк, к Киеву внезапно приходит черниговский князь Всеволод Ольгович, который когда-то также захватил Чернигов, тем же самым методом, и говорит: «Берите меня в князья».
Д. Володихин
— Ну, что тут сказать, обстановка созрела к тому.
С. Алексеев
— Да, это первый настолько наглый был захват Киева в истории человеком, который юридически, во всяком случае, по устойчивому обычаю, не имел никаких на него прав. Отец Всеволода не княжил в Киеве, только дед, и то с сомнительной законностью.
Д. Володихин
— И в дальнейшем, как говорится, «понеслось», один претендент приходил за другим. Вот что касается окраинных княжеств, получается так: пока вы там деретесь, мы сами о себе промыслим. Дорогие радиослушатели, мы сходим с торных дорог истории города Киева и находимся на пути, который ведет к тропинкам глухим и опасным, но Киев пока еще богат, Киев пока еще драгоценный приз в княжеских междоусобиях. Я уже говорил, что первый погром Киева произвели не монголы, а свои, и вот как раз об этом-то стоит поговорить. В какой момент Киев перестал быть желанным как место княжения и стал желанным просто как место, где много богатых вещей, денег, платёжных слитков и всего того прочего, что можно оттуда увезти?
С. Алексеев
— Обычно таким рубежом считается 1169 год, действительно год первого взятия Киева и его разорения в ходе княжеских междоусобиц. К этому времени Русь уже фактически полностью распалась на отдельные княжества. Уже очень давно ни одному князю не удавалось как по естественным причинам, так и из-за того, что выгоняли они друг друга, просидеть в Киеве хотя бы десять лет. Особенно ожесточённой борьба за Киев была перед этим в 40–50-х годах, когда соперничали Волынский князь Изяслав Всеславич, сын Всеслава Великого, с прославленным своим дядей Юрием Долгоруким, князем Ростовским и Суздальским. Изяслав своей смертью вручил княжение Юрию, Юрий просидел в Киеве не более двух лет.
Д. Володихин
— Значит, до этого он входил много раз, раз десять удерживался?
С. Алексеев
— Ну, не столько, но входил, да.
Д. Володихин
— Три дня, неделю, месяц, четыре дня, полтора месяца, неделю — и опять его оттуда вышибали. А тут он сел надолго — целых два года, наверное.
С. Алексеев
— И после пира у киевского боярина Петрилы скончался. Собственно, мнение о том, что он был отравлен, было единогласным уже в древнерусскую эпоху.
Д. Володихин
— Не любили его там, не свой он был в Киеве.
С. Алексеев
— И вот здесь, именно в период его киевского княжения, случился довольно важный для будущего Киева эпизод. Сын Юрия, Андрей, посаженный на одном из киевских уделов, не захотел там сидеть, а забрав с собой некоторые святыни, в частности, кое-что из памятников культуры (например, явно летопись Переяславскую он с собой взял, которую потом продолжали уже во Владимиро-Суздальской земле).
Д. Володихин
— Владимирскую икону Божией Матери с собой забрал.
С. Алексеев
— Да. И он отправляется в родные края, во Владимиро-Суздальскую Русь, не спросясь отца, и русские источники это осуждают, и указывают на то, что те, кто его на это подбил — бояре Кучковичи — потом, через 20 лет стали его убийцами. Но, так или иначе, Андрея Юрьевича явно не прельщало оставаться в Южной Руси даже в роли наследника.
Д. Володихин
— Раньше это было очень почётное стечение обстоятельств, а тут сын великого князя Киевского говорит: «Папа, всё, неинтересно».
С. Алексеев
— И он уходит отстраивать и взращивать свою собственную землю.
Д. Володихин
— Но потом его дружинники в Киев вернутся. Собственно, 1169 год — это как раз такое не триумфальное, а скорее устрашающее возвращение северных ратников в Южную Русь.
С. Алексеев
— Собственно, после некоторой замятни за смертью Юрия Долгорукого, цепочки событий, на Киевском престоле довольно мирно и довольно надолго утверждается другой сын Всеслава Великого — Ростислав, князь Смоленский, и правит благополучно до своей смерти в 1167 году. Человек, не то чтобы совсем уж мирный, но более мирный, чем многие князья, достаточно благочестивый, многое сделавший для своего княжества и, по крайней мере, для успокоения вокруг Киева. Но после его смерти на престол вступает его племянник, сын давнего врага Юрия Долгорукого, Мстислав Изяславич, которому за два года удалось настроить против себя всех князей родичей — и Владимиро-Суздальских, и Смоленских, и Черниговских. Создать такую широкую коалицию против себя ни одному киевскому князю до тех пор не удавалось. В 1169 году под Киевом появляется коалиционное войско всех вот этих трёх княжеских родов, включая и ближайших родичей великого князя из Смоленска, коалицию возглавил Андрей Боголюбский, но сам он показательно на Киев не пошёл.
Д. Володихин
— Не интересно.
С. Алексеев
— Он послал своего сына Мстислава, и в походе участвовал брат его — Глеб, который, собственно, долго был князем Переяславским, ну и, в общем, это были его дела, дела Южной Руси. После осады, не очень долгой, в городе начались пожары и беспорядки, часть служилых кочевников перешла на сторону осаждающих и город был взят. Мстислав Изяславич бежал, бросив свою семью в городе. Город действительно подвергся жестокому разграблению, киевский летописец на это, естественно, сетует, но, честно говоря, не слишком смягчает краски и летописец Владимирский, хотя говорит, что это вот киевлянам поделом, по грехам их. Во всяком случае, разорению подверглась даже Киево-Печерская Лавра.
Д. Володихин
— Печальная история.
С. Алексеев
— О том, чтобы Андрей Боголюбский перешел в Киев, вопрос не стоял — он не хотел. Избрали его брата Глеба, который, естественно, уже не мог быть, кроме как чисто формально, первым среди равных на Руси.
Д. Володихин
— Он был просто фигурой вечнопереходной, то есть давайте посмотрим, кто будет после него, а, впрочем, не так важно.
С. Алексеев
— Его постигла судьба отца — он довольно скоро скончался в Киеве.
Д. Володихин
— И, возможно, ему подарили эту возможность намеренно.
С. Алексеев
— Да. Опять же, источники подсказывают, что могло быть такое. После этого в Киеве началась княжеская чехарда, продолжавшаяся несколько лет.
Д. Володихин
— Не будем перечислять все повороты, это ужасно.
С. Алексеев
— Нет, не будем. Я просто отмечаю, что кончилась она всё-таки тем, что получился временный компромисс, и впервые за весь XII век, со времён смерти Владимира Мономаха даже, в Киеве утвердился князь, который просидел больше десяти лет. Даже достаточно долго просидел, на самом деле, — около полутора десятков лет. Святослав Мудрый, который известен нам по «Слову о полку Игореве», где он произносит «Золотое слово», обращаясь к князьям с призывом встать на защиту Руси. Действительно мудрый человек, очень искусный политик, представитель Черниговского княжеского дома, отмеченный ратной славой, отбил нападение на Киев половцев хана Конча́ка, разгромил в 1184 году лукоморскую орду хана Кобя́ка. Компромисс был в том, что он соправительствовал в Киеве с Рюриком Ростиславичем из Смоленского княжеского дома (Мономашичем, соответственно), который держал всю Киевскую землю, или, как тогда говорили, всю «русскую землю», то есть в очень узком смысле «Русь» — то, что вокруг Киева. Вот такой был баланс.
Д. Володихин
— Что получается: один был главным акционером компании под названием «Киевская Русь», а другой был исполнительным директором фактически.
С. Алексеев
— Ну, вроде того. Когда Святослав скончался, происходит очень интересный эпизод, который показывает, кто на Руси главный. Рюрик Ростиславич, согласно их договоренности, вступает на Киевский престол...
Д. Володихин
— Совсем вступает?
С. Алексеев
— Совсем вступает. В это время к нему приезжают послы от Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо, и говорят ему: «Наш князь тебя сажает в Киеве, радуйся». Рюрик Ростиславич молча радуется.
Д. Володихин
— Дорогие радиослушатели, на этой ноте, переходя от княжеских междоусобий до великой трагедии Батыева погрома, мы все-таки не забудем отметить: что бы там, в Киеве, не происходило, а у нас здесь Светлое радио, Радио ВЕРА, в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях доктор исторических наук, замечательный специалист по истории Русского Средневековья Сергей Алексеев, и мы обсуждаем судьбу средневекового Киева, когда он падает со своих небес благополучия в бездну — сначала междукняжеских свалок, а затем уже и в объятие опустошения времен Батыя. Ну, прежде чем мы подойдем к Батыевым временам, стоит рассказать о двух вещах. Во-первых, погром Киева при Андрее Боголюбском был не единственным, последовали новые. И второй момент: власть над Киевом в 30-х годах XIII века переходила очень странно. Такое впечатление, что не слишком многие хотели ее взять.
С. Алексеев
— Действительно, второе большое разорение Киева произошло в 1203 году, в нем участвовали как русские князья, так и поведенные ими союзные половцы, частично крещёные половцы, но от этого Киеву было не легче, к несчастью. И если в 1169 году разорение только затронуло киевские монастыри, хотя и знаменитейшие, то в 1203 году они все подверглись жесточайшему опустошению. А кроме того, впервые был разграблен Город Владимира со своими древнейшими киевскими храмами — цитадель Киева, включая Десятинную церковь, возведенную святым князем. То есть, в общем, даже понимавший и помнивший 1169 год и Владимирский летописец, ну, владимирцы не участвовали в этом уже, это была борьба между смоленцами, волынянами и черниговцами. Ну так вот, даже Владимирский летописец отметил, что «были над Киевом напасти и взятия, но не такое нынче зло случилось».
Д. Володихин
— Ну, что ж, Киев отсчитывал последние десятилетия до трагедии, перед которой все это поблекнет, и в последние годы перед нею борьба за Киев носила странный вид. Князья хотели им владеть, но не хотели там сидеть совершенно.
С. Алексеев
— Ну, кто как. В принципе, надо понимать, что весь этот период, с 1200-203-го и даже не до, собственно, Батыева погрома, а до середины 40-х годов — это время постоянных междоусобиц именно в Южной Руси. Шла гражданская война в Галичском княжестве, шла война за обладание как Галичем, так и Волынью между русскими князьями, с участием в том числе и западных соседей Руси, Польши и Венгрии. Шла борьба за Киев прежде всего между смоленскими и черниговскими князьями.
Д. Володихин
— Но уже не как за центр старшинства, а просто как за довольно богатую вещь.
С. Алексеев
— Ну, были князья, которые хотели именно что сидеть в Киеве и среди них, например, Мстислав Романович из Смоленского княжеского дома, который там сидел, сел и, в общем, достаточно крепко сидел, и видел себя, возможно, если не объединителем Руси, то во всяком случае чем-то похожим на Святослава Мудрого.
Д. Володихин
— Ну, человек предполагает, а Господь располагает.
С. Алексеев
— В 1223 году он погиб после битвы на Калке с монголами. Вот после этого действительно в Киеве князья долго не задерживались. Кто-то из них не хотел там сидеть, как, например, Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, сын Всеволода Большое Гнездо, пришел, какое-то время там побыл, и, собственно, даже, возможно, не потому, что услышал о вторжении монголов во Владимиро-Суздальскую землю, а просто потому, что не хотел там оставаться, как раз около этого времени поехал к себе на север.
Д. Володихин
— Ну там ведь еще была какое-то время власть Черниговского князя Михаила и Галицко-Волынские князья также властвовали в Киеве, сажали там некоего своего тысяцкого Дмитра, но уже не сами сидели.
С. Алексеев
— Ну, тут все-таки обстановка была такая, что монголы уже были на Левобережье и собирались брать Киев. Вообще характерно, что даже в этих условиях за Киев еще боролись. Сначала туда въехал князь из Смоленского княжеского дома, потом его оттуда выбили черниговцы, потом Михаил Всеволодович Черниговский узнал, что с востока уже монголы идут, бежал, и вот тут Галицкий князь Даниил посылает в Киев своим наместником Дмитра, названного вами, а сам в очень скором времени тоже бежит вслед за Михаилом в Венгрию.
Д. Володихин
— То есть хорошо бы наложить лапу на эту драгоценную вещь, но она, как чемодан без ручки с ценным содержимым: нести тяжело, бросить жалко, что делать — непонятно.
С. Алексеев
— В 1240 году пришли монголы, Киев сопротивлялся, сопротивлялся ожесточенно и героически, но силы монголов, как, собственно, и во всем их нашествии, оказались превосходящими и подавляющими.
Д. Володихин
— Ни один из князей не подбросил туда сил.
С. Алексеев
— А некому уже было. То есть нет, в принципе, Даниил, конечно, мог бы направить туда свои войска, но войска его отсиживались за каменными стенами галицких крепостей (кстати, которые не все монголы смогли взять).
Д. Володихин
— Ну, Кременец не взяли они.
С. Алексеев
— Да. Ну, а сам Даниил, собственно, уже правил путь в Венгрию.
Д. Володихин
— Ну, быстро передвигался в обратную сторону от монголов.
С. Алексеев
— Батый взял Киев, город подвергся жесточайшему разорению. Осада была долгой, монголы таких ситуаций не любили и мстили за них жестоко. Город, действительно, был выжжен, разрушен Город Владимира целиком, с Десятиной церковью, она не была восстановлена, Софийский собор был разорен.
Д. Володихин
— Чтобы понятно было, дорогие радиослушатели: там фундамент сохранился, а самой Десятинной церкви нет как нет.
С. Алексеев
— С XVII века ее неоднократно раскапывали для обретения мощей, позднее уже и в археологических целях. Но, в общем, Десятинной церкви нет. Другие храмы и монастыри тоже подверглись жесточайшему разорению. Значительная часть населения либо разбежалась, либо была истреблена или угнана, Дмитр сам был захвачен в плен, ну и Батый отнесся к нему с уважением, даже держал его, вроде бы, в советниках. Ему, в частности, приписывается то, что он уговорил Батыя уйти с Руси под тем предлогом, что, когда поляки и венгры соберутся с силами, их уже не получится завоевать. Ну, может быть, действительно, поляки с венграми вряд ли за такой совет были бы ему благодарны, но русский летописец ему за это благодарен.
Д. Володихин
— Ну что же, венграм досталось, да и полякам тоже. Немножко в сторону от нашего разговора: знаменитая битва при Ле́гнице, европейцы много раз говорили: «вот тут-то мы их и остановили», но, похоже, это не совсем так.
С. Алексеев
— Нет, конечно. Битва при Легнице была разгромом, там погиб польский великий князь, там полегла значительная часть польского рыцарства.
Д. Володихин
— Немцы? Некоторое количество.
С. Алексеев
— Ну, отдельные авангардные отряды монголов были остановлены в пределах Священной Римской империи в Чехии.
Д. Володихин
— Ну, похоже на то, что монголы просто несколько утомились рубить все остальные народы, взяли отпуск себе. Возвращаемся в Киев. Киев лежит в руинах, и он лежит в руинах очень долго. Те, кто проезжает через Киев, передают сведения в очень удрученном тоне.
С. Алексеев
— Киев, действительно, потерял полностью свое значение, есть описания иностранцев, есть, собственно, факты. Новый митрополит Руси Кирилл фактически не сидел в Киеве, он ездил по остальной Руси, в основном на север — северо-восток. Александр Невский, получивший разоренный Киев в качестве своего удела в 1249 году, посмотрел, попечаловался и поехал к себе в Новгород.
Д. Володихин
— Некоторые специалисты думают, что и вообще не доехал до Киева.
С. Алексеев
— Ну, побывал он в Киеве, есть свидетельства в пользу этого, но он не захотел там оставаться, там негде было оставаться. Собственно, за три года до этого город описан, там несколько сотен жителей остаётся и пасётся скот.
Д. Володихин
— Ну, большая деревня.
С. Алексеев
— Большие руины, среди которых зарождается деревня.
Д. Володихин
— Ну что ж, XIII век — самое несчастливое время для Киева.
С. Алексеев
— Теоретически на Киев продолжал льститься Даниил Галицкий до конца своих дней. Он всё-таки претендовал на роль короля Руси, получил корону от римского папы, и, в общем, Киев был логичным дополнением к его короне. Но его борьба с улусником ордынским Куремсой за Киев окончилась тупиком, позднее галицким князьям удавалось для своих кандидатов в Константинополе добиваться, чтобы они становились киевскими митрополитами, но не более. Никакой политической власти над Киевом Галич не осуществлял, и более того, никакой поддержки реальной и материальной митрополитам не оказывал.
Д. Володихин
— Что ж там было-то в Киеве? Митрополиты там не сидели, понятно.
С. Алексеев
— Некоторые пытались сидеть честно. Митрополит Максим, например, честно сидел в Киеве, пока в 1299 году в окрестностях города не произошла грандиозная битва между соперничающими правителями Орды.
Д. Володихин
— И тогда он отправился в Владимир.
С. Алексеев
— Да, и как записано в летописи по этому поводу: «весь город Киев разбежался».
Д. Володихин
— Вот то, что осталось от города Киева, разбежалось.
С. Алексеев
— Позднее новый галицкий митрополит, победивший тверского кандидата Петр, тоже посидел в Киеве и отправился на северо-восток. В конечном счете он оказался в Москве, как известно. И эта ситуация повторялась раз за разом. На Киев польстились Путивльские князья.
Д. Володихин
— Ну, совсем уж мелкие.
С. Алексеев
— Да, с Левобережья. Вот они пришли и сели там. На самом деле непонятно, сколько они там сидели, поскольку все сведения очень смутные. Они не попадали в сферу интересов русских летописцев, чтобы о них писать. В основном это помянники или поздние литовские предания. Ну, а в XIV веке приходит новый завоеватель — литовцы, которые понемногу начинают захватывать сначала Киевскую землю с северных ее окраин, ну, а потом добираются уже и до самого Киева.
Д. Володихин
— Ну, что им досталось? Видимо, все та же деревня, только побольше размером.
С. Алексеев
— Ну, насколько побольше, очень сложно сказать. Мы даже не понимаем, когда именно литовцы точно Киев захватили.
Д. Володихин
— Пишут о 1330-х.
С. Алексеев
— В литовских летописях, созданных в XV веке, а если говорить именно об этих летописях, то скорее даже уже в XVI веке. Речь идет о битве на реке Ирпень, грандиозном сражении эпическом, в котором князь Гедимин разгромил целую коалицию русских и татар, причем там якобы и волынские князья участвовали, и какие-то там и киевские князья участвовали. Вот после этого он овладел Киевом и посадил там князей Гольшанских на княжение. Но мы ничего не знаем из источников XIV или даже XV века об этом грандиозном сражении. Князья Гольшанские действительно правили в Киеве с конца XIV века, на несколько десятилетий позже. Если литовцы действительно очутились в Киеве уже в 20-30-х годах (ну есть некоторые косвенные свидетельства в пользу этого), то продержались они там недолго, но северные окраины Киевской земли они действительно захватили прочно, и Припятское Полесье уже входило в состав Литвы при Гедимине определенно.
Д. Володихин
— Дорогие радиослушатели, мы идем по долине смертной тени в истории города Киева, по XIV веку. XIII век был плох, XIV также был неблагополучен, но века через полтора после разгрома времен Батыя в 1240 году Киев начал постепенно восстанавливаться. Что мы знаем? Конец XIII века — начало XIV века, безраздельная власть Орды и претензии сначала Даниила Галицкого, потом Литвы — как бы наложить на Киев лапу. Непонятно, когда это произошло, но вот ко второй половине XV века Литва все-таки постепенно получила себе этот город. А что она, собственно, получила?
С. Алексеев
— Ну, в 1362 году князь Ольгерд завоевывает Киев и Киевскую землю, в 1363 году условно покончил (конечно, не навсегда) с претензиями на нее Орды, разгромив трех ордынских мурз. Часто сравнивают это с Куликовской битвой, говорят «вот была первая победа Руси над Ордой», но на самом деле вещи, конечно, несопоставимые.
Д. Володихин
— Некоторые говорят, что Дмитрий Переяславский одержал первую победу над Ордой в 1285 году.
С. Алексеев
— Ну вот Дмитрий Переяславский хотя бы царевича разбил, кого там разбил Ольгерд, на самом деле, не очень понятно. Там по одной версии тоже царевича, по другой — мурз, мы не знаем, но во всяком случае это была явно какая-то локальная победа, может быть, покончившая с Переяславской Ордой, Ордынским улусом на Левобережье. Ольгерд понимал значение Киева прежде всего как церковной столицы. Для него было важно иметь в Киеве своего митрополита, и он добивался этого, в том числе шантажируя Константинополь тем, что уйдет в католики. В итоге прибыл в Киев, как известно, митрополит Киприан...
Д. Володихин
-... посидел там недолго...
С. Алексеев
— ... и захотел в приличное место.
Д. Володихин
— То есть это свидетельствует о том, что Киев — все еще деревня и все еще не очень богатая.
С. Алексеев
— Конечно, Киприану далеко не сразу удалось окончательно перейти в Москву, были у него проблемы политические с московскими князьями, но вот при князе Василии I в 1390 году это наконец свершилось. К тому времени Ольгерда уже в живых давно не было, он умер в 1378-м еще, и, собственно, что происходит с Киевом при Ольгерде? Он начинает, по крайней мере, город восстанавливать, потому что понимает, что престижен город. Ну и кроме того, из чисто практических соображений нужно было хотя бы восстановить укрепление. Он оставляет в Киеве одного из своих сыновей, Владимира Ольгердовича, который становится родоначальником, можно сказать, последней династии киевских князей, но тут несколько сложно, потому что сами-то потомки Владимира Ольгердовича действительно считали себя наследными правителями Киева, но у великих князей литовских на это был взгляд несколько иной.
Д. Володихин
— Посадили вас — ну, посидели вы — сняли вас.
С. Алексеев
— Вот да. Вы наместники, а не князья киевские. Князья вы слуцкие и копыльские, а в Киеве вы — наместники великокняжеские.
Д. Володихин
— Дали вам побыть по нашему приказу, по нашему же приказу вас оттуда и убрали.
С. Алексеев
— Владимир Ольгердович, правда, был киевским князем и признавался в качестве такового, будучи, естественно, сыном великого князя и поучаствовал в разделе земель после его смерти, но, в том числе, его политические амбиции привели к тому, что после его смерти в 1397 году статус Киева резко понижается.
Д. Володихин
— Вот Владимир Ольгердович, что он там отстроил? Я знаю, что он пытался выпускать серебряную монету киевскую. Монета была чудовищно безобразной, и видно то, что ремесленники киевские, ну, они существовали, но были на ничтожном уровне технологии на тот момент.
С. Алексеев
— Ну да, ведь на протяжении нескольких поколений южно-русских ремесленников угоняли в Орду и те высоты ремесла, которые были в Киеве в начале XIII века, давно были забыты, некоторые навыки вообще были утрачены для Руси «благодаря» Ордынскому игу и предшествующему нашествию. Поэтому, да, конечно, у Владимира Ольгердовича с точки зрения ремесла было мало возможностей. Ну, город, по крайней мере, снова был окружен стенами, снова жила монастырская жизнь, и в Печерах, и в Выдубице. Митрополиты чуть дольше сидели в Киеве.
Д. Володихин
— Прежде чем всё равно уехать.
С. Алексеев
— Да. И, в общем, неплохое наследство оставил Владимир Ольгердович наместникам своего двоюродного брата Витовта.
Д. Володихин
— Ну, чтобы было понятно: был средневековый мегаполис, потом его убили, потом из этой почвы выросла деревня, потом неглупый князь заботливый вырастил из деревни посёлок городского типа. Вот посёлок городского типа на месте мегаполиса — это, конечно, неплохое наследие по сравнению с деревней.
С. Алексеев
— Посёлок городского типа с минимум двумя приличными всё-таки монастырями по соседству (и даже не по соседству, а непосредственно примыкающими, практически входящими в город), с растущими предместьями. Конечно, новая серия ордынских нашествий и вторжение Тимура, конец XIV века — всё это нанесло новый урон Киевской земле, но всё-таки Киев рос. Потом правили, как я уже упоминал, князья Гольшанские, это были именно наместники Гедиминовичей, не принадлежавшие к правящей династии, люди, которые по знатности в Литве стояли сразу за правящей династией. Вот их надо было из Литвы убрать, и их отправили наместниками в Киев. В 1435 году, уже после смерти Витовта, пять лет прошло, сыну Владимира Ольгердовича, Александру (или Олелько, как его обычно называли) удалось добиться возвращения Киевского стола, по крайней мере, сам он видел это как возвращение отцовского стола. Юридически великий князь Казимир Ягеллон, двоюродный брат его, и польский король одновременно, помимо того, что великий князь литовский, определил ему это как наместничество. И в дальнейшем вот этот правовой спор, иногда перетекающий в заговоры против великого князя и в опалы с его стороны, между киевскими князьями, которым хотелось видеть себя великими князьями киевскими, и Казимиром (в основном это именно на правление Казимира приходится), это всё продолжалось. На это наслаивалась ещё сложная ситуация с митрополией. Уже в начале XV века удалось не только заполучить в Киев митрополита — болгарина Григория Цамблака, — но и удержать его там. Проблема была в том, что митрополит он был незаконный, при живом митрополите Фотии Московском.
Д. Володихин
— Литве хотелось своего «карманного» митрополита.
С. Алексеев
— Да. Вторая проблема заключалась в том, что в конце правления Олелько Владимировича в Киеве Русская Церковь стала автокефальной, и началась борьба между униатами с одной стороны, русским митрополитом Ионой с другой, и Константинопольской, возрожденной после захвата Константинополя турками, православной Константинопольской кафедрой патриаршей за то, чей будет митрополит в Киеве. В итоге, как известно, на 200 лет Русская Церковь оказалась расколотой, потому что Константинопольский Патриарх всё-таки утвердил в Киеве своего митрополита, и это, в свою очередь, обязывало князей, конкретно Семёна Олельковича, достаточно долго правившего в Киеве, отстраивать город в более приличном виде. Тогда появляется новый собор в Киево-Печерской Лавре, начинается восстановление Софийского собора полноценное и в принципе, город крупнеет и богатеет. Но этот золотой век продлился недолго, Семён находился в сложных отношениях с Казимиром, он и его брат возглавляли оппозиционную партию, опиравшуюся в том числе на православных. И после смерти Семёна в 1370 году Киевское княжество было ликвидировано.
Д. Володихин
— Михаил хотел бы удержаться, но Казимир твёрдо сказал: «всё, этот филиал мы закрываем».
С. Алексеев
— Да. А в 1481 году Киев подвергся новому погрому, на этот раз со стороны крымского хана Менгли Герая.
Д. Володихин
— Ну что ж, мне остаётся задать последний вопрос. Киев, вроде бы возрождающийся в конце XIV, в XV веках, Киев, претерпевающий новые варварские нашествия, новые удары, растущий, теряющий, опять пытающийся расти. Что такое Киев XV века по сравнению с Киевом XII века? А что осталось или, вернее, что выросло заново на этом святом месте?
С. Алексеев
— Конечно, уровня XII века Киев XV века ещё не достигал. Начать с того, что, конечно, политическое значение было совершенно другое. Киев XII века, как бы то ни было, хотя бы номинальная, но столица Руси. Киев XV века — удельный город Великого княжества Литовского, а затем провинциальный центр Великого княжества Литовского. Пусть очень важный провинциальный центр, престижный, но всё-таки провинциальный.
Д. Володихин
— То есть, условно говоря, райцентр.
С. Алексеев
— Ну, облцентр.
Д. Володихин
— Ну, я даже не знаю, может быть, ещё пока и не обл.
С. Алексеев
— Ну, может быть, нет. Но всё-таки, с точки зрения контроля над православным русским населением, он для этого и важен, там сидит митрополит, присылаемый из Константинополя. Но, опять же, митрополит — глава не официальной, не государственной Церкви, Церкви оппозиционной фактически. Литва уже католическая и, в общем, стремится окатоличить своих русских подданных, пока ещё мирными средствами.
Д. Володихин
— Ну, дайте срок. Что ж, дорогие радиослушатели, благодаря просветительским усилиям Сергея Викторовича Алексеева мы сегодня увидели величие Киева, его падение, его попытки подняться, и тот уровень, на котором он оказался в конце XV века, когда начинаются долгие военно-политические тяжбы между Московским государством и Литвой. В этих тяжбах решится судьба Киева, он вновь в конечном итоге станет русским городом уже в XVII столетии. Ну, а пока, вы видите, этот город испытал величие необыкновенное, рухнул в бездну, на месте старого города вырос новый, в XV веке это в значительной степени катер, выросший на месте крейсера, город-призрак, но имеющий шанс всё-таки подняться, если, наконец, эта русская православная область перестанет получать удары извне. А теперь мне остаётся от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева и сказать вам: благодарю за внимание, до свидания.
С. Алексеев
— До свидания.
Все выпуски программы Исторический час
- «Христианские корни русского фольклора». Анастасия Чернова
- «Афанасий Афанасиевич Фет». Сергей Арутюнов
- «Адмирал Д.Н. Вердеревский». Константин Залесский
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
22 февраля. «Смирение»

Фото: Malachi Cowie/Unsplash
«Тот, кто обижается, просто глуп», — говаривал великий учитель христианской нравственности святитель Иоанн Златоуст. Обидчивость — недуг гордого, себялюбивого сердца. Великое приобретение — сохранение мирности в душе при различных проявлениях недоброжелательства по отношению к нам. Это Божий дар и вместе плод молитвенных усилий самого человека. Никогда ни на кого не обижаться — это смирение.
Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров
Все выпуски программы Духовные этюды
Храм Тихвинской иконы Божьей Матери. (г. Данков, Липецкая область)

Городок Данков на севере Липецкой области — типичная русская глубинка. Тихие улицы, малоэтажная застройка. Каменные и деревянные усадебные домики 19-го века. Данков — город старинный, основан он в 1568 году. За свою историю успел побывать в составе Воронежской и Рязанской губерний. В 60-ти с небольшим километрах отсюда — Куликово поле, где в 1380-м году Димитрий Донской разбил ордынское войско. Дорога на него проходит как раз через Данков. Она огибает главную святыню города — Собор Тихвинской иконы Божьей Матери.
Небесно-голубой, с золотым центральным куполом, он стоит в самом центре города. Многие сразу улавливают в очертаниях Тихвинского собора сходство с московским Храмом Христа Спасителя. И не случайно. Над их проектами работал один и тот же архитектор — Константин Андреевич Тон. У них одинаковый архитектурный стиль — русско-византийский. Интересно, что поначалу проект, по которому построен храм в Данкове, Тон создал для одного из храмов Задонского Богородице-Рождественского монастыря. Но затем по каким-то причинам, после небольшой переработки, был утверждён для строительства данковского Тихвинского собора.
Возводился храм в период с 1861 года по 1872-й, а предшествовало его появлению удивительное событие. В 1817-м году в Данкове участились пожары. Сотни семейств лишились крова. Власти подозревали поджоги, искали виновных. Однако безрезультатно. Данковчане молили Господа и Пресвятую Богородицу защитить их от беды. И в праздник Тихвинской иконы Божьей Матери преступника, наконец, нашли! Поймали его на месте преступления — при попытке поджечь данковский Покровский монастырь... В тот же день данковчане обнаружили на каменном столбе в центре городской площади Тихвинскую икону Богородицы. Откуда она там взялась, никто не знал. Понимая, что это Матерь Божия помогла отыскать злодея и защитила Данков, горожане решили построить на месте чудесного обретения иконы храм. Жертвовали, кто сколько мог. Двухэтажный, пятиглавый, цветом напоминающий лазурное небо Тихвинский собор стал главным храмом Данкова. Внутреннее убранство — иконостасы, образа, кованную лестницу, ведущую на второй этаж храма — заказали в Москве местные купцы-благотворители Пешковы. Они же пожертвовали средства на постройку пятиярусной колокольни. Её возвели чуть позже самого храма, в 1885-м году.
Увы, 42-метровая звонница не пережила годы безбожной советской власти. В 1938-м её снесли. Увидеть колокольню сегодня можно лишь на сохранившихся старых фотографиях города. Ещё раньше, в 1924-м, закрыли собор. И только спустя семьдесят лет двери его вновь открылись для верующих. Тихвинский храм — символ благодарности жителей Данкова Божьей Матери за чудо произошедшее здесь когда-то, был возвращён Русской православной Церкви в 1994-м году.
Все выпуски программы ПроСтранствия
Маленькие осенние радости

Фото: Pixabay / Pexels
На днях я отводил ребёнка в сад. Мы с Ваней вышли из дома пораньше, чтобы не опоздать. Дорога пролегала через сквер, усыпанный осенними листьями. Погода в то утро стояла погожая, отлично подходящая для размеренных прогулок, только мне было не до этого. Я спешил на работу и всё время подгонял Ваню. Он старался не отставать, но то и дело отвлекался на разноцветные опавшие листья, озорно раскидывая их ногой в разные стороны. В ответ на его промедление во мне всё больше восставало раздражение... И тут, сам не понял, как это случилось, я вдруг оступился и упал. Моё приземление смягчила пышная листва, которую к моей радости дворники ещё не успели собрать. Ко мне подбежал растерянный сын. Я поднялся, отряхнулся и к собственному удивлению, вместо того чтобы ещё больше разозлиться, почему-то начал улыбаться. А Ваня в ответ засмеялся. Он начал сгребать руками сухие листья и радостно подбрасывать их вверх. Его искренний смех окончательно смягчил моё сердце. Мне захотелось замедлить время и вместе с ребёнком радоваться осени, этому тёплому солнечному утру и никуда не торопиться. Я взглянул на часы — мы везде успевали. И пошли, уже неспеша, любуясь по сторонам и весело раскидывая ногами опавшие сухие листья.
Текст Дарья Никольская читает Илья Крутояров
Все выпуски программы Утро в прозе