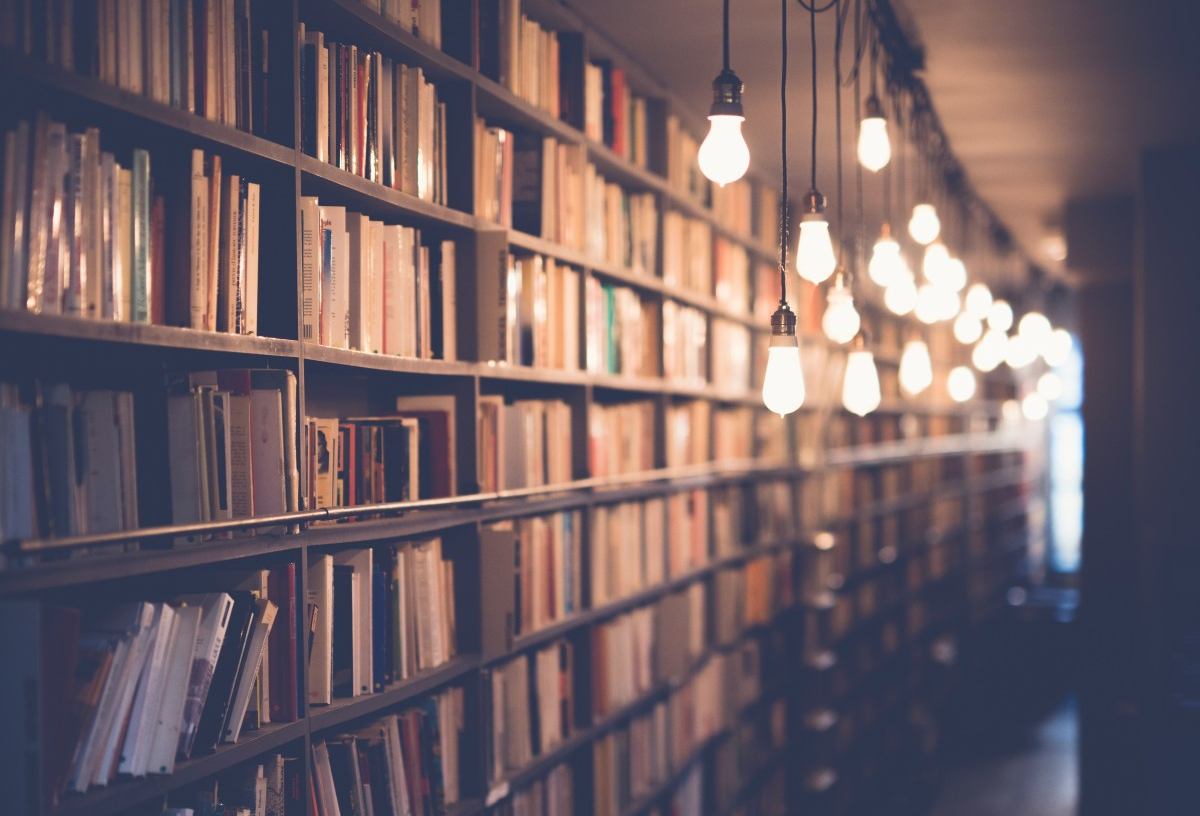
Гость программы — Илья Докучаев, профессор, доктор философских наук, заведующий Кафедрой онтологии и теории познания СПбГУ.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами её ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об истине в философии и вере. У нас в гостях профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета Илья Игоревич Докучаев. Илья Игоревич, здравствуйте!
И. Докучаев
— Здравствуйте, Алексей Павлович!
А. Козырев
— Вы не первый раз в гостях в нашей студии, но первый раз в качестве академика Российской академии художеств. Я вас искренне поздравляю с присуждением этой высокой степени, высокого звания. Вы буквально вчера получили диплом на Пречистенке, он подписан ещё Зурабом Константиновичем Церетели, к сожалению, безвременно ушедшим от нас выдающимся мастером, художником. Этим дипломом признаются ваши заслуги как руководителя Российского культурологического общества, и Академия художеств— это такое интересное сообщество не только художников, артистов...
И. Докучаев
— И искусствоведов тоже.
А. Козырев
— И искусствоведов, да. Вы философ, можно ли сказать, что философ — это тоже художник мысли?
И. Докучаев
— Безусловно.
А. Козырев
— Всё-таки книга — это не менее, наверное, сложное по замыслу произведение, чем картина. И здесь тоже бывают разные, наверное, обстоятельства. Кто-то, как импрессионист, пишет книгу за две недели, и ничего плохого в этом нет. Мы знаем, что Россини написал оперу «Севильский цирюльник» чуть ли не за три недели. Кто-то пишет книгу, вот мне сказали, что вы писали вашу книгу «Бытие и истина» 20 лет, так?
И. Докучаев
— Да.
А. Козырев
— Кстати, спасибо вам за подарок. Эта книга в этом году отмечена Евразийской философской премией, это новая, но уже укоренившаяся премия в нашем философском сообществе. И это повод поговорить вокруг тем этой книги, которыми вы занимаетесь как представитель первой философии, поскольку онтология — это первая философия, если говорить языком Аристотеля, то есть то, с чего вообще философия начинается. Поговорить об истине, я думаю, нашим радиослушателям тоже интересно — как на истину могут смотреть философы и верующие люди. Для верующего человека истина — Христос. Господь сказал в Евангелии: «Я есть путь, истина и жизнь». Что же в философии? Вот почему философия старается другие итерации ещё делать, почему она не удостоверяется этими словами Христа, а говорит о какой-то ещё философской истине? Что мы можем вообще сказать об истине, где мы можем её искать?
И. Докучаев
— Я бы вот с чего хотел начать. Мы в прошлый раз говорили о ценностях, и мне кажется, что эти две категории — ценность и истина, и вот как у Шопенгауэра мир как воля и представление, так я полагаю, что мир — это прежде всего ценность и истина. Потому что истина — это реальность во всем её многообразии, а ценности — это те идеалы, к которым мы стремимся и которыми мы пытаемся преобразить собственное существование.
А. Козырев
— Ну, если истинно, то оно ценно, если оно ложно, то, наверное, оно не ценно, мы не будем говорить, что ложь — это ценность. По-моему, это понятное утверждение, я думаю, все с ним согласятся.
И. Докучаев
— Да. И когда мы различаем ценность и истину или истину в философии, истину в вере, мы немножко грешим против истины, потому что все эти вещи настолько тесно взаимосвязаны, что определить истину без того, чтобы определить ценности, не представляется возможным. Особенно грустно, когда, например, различают теорию познания и онтологию, теорию бытия, теорию сущего, потому что истина — это, конечно, не какая-то теоретическая конструкция, а это мир, который существует, и в существовании которого мы убеждены. Именно поэтому мы можем говорить о том, что, если мы верим в существование Бога, в существование Христа и в то, что Он — Истинный Бог наш, то мы говорим об истине точно так же, как философ или какой-нибудь логик говорит об истине как о совпадении высказывания и реальности. В моей книге (это, кстати, первый том) даны очерки по классификации сущего, а во втором томе, который будет как раз посвящён общей теории истины, я пытаюсь дать картину многоразличных значений слова «истина» и показать, что все они представляют собой своеобразные следы бытия, которые мы обнаруживаем, взаимодействуя с различными типами сущего. Вот это всё я пытаюсь различать. Вообще вот эти три слова: истина, бытие и сущее — три кодовых слова философии, вот ткань, если её связать, там будут три такие ниточки, если потянуть за одну из них, то вся ткань распустится. И вот эту теснейшую связь сущего, бытия и истины я пытался как раз показать, понимая под сущим всё пространство наших смыслов, которые мы порождаем и которые мы конструируем и констатируем. Под бытием — вот это наше отношение к смыслам, которые мы порождаем и констатируем, ну а истина — это то, как нам бытие сущего открывается. Это важно сразу определить, потому что истина — это не какое-то дополнительное свойство сущего, а, как нам говорил ещё Эммануил Кант: «Истина не есть реальный предикат, она ровным счётом к смыслу сущего ничего не добавляет». Тем не менее это всё-таки некоторое дополнительное свойство, по которому мы определяем, существует предмет или нет, ложен он или нет, достоверен он или нет, сомнителен он или нет, убедителен он или нет. Я выделяю в своей второй части восемь смыслов истины, причём я считаю, что никаких других, кроме этих восьми, выделено быть не может. Я даю систематизацию формально-логическую и показываю, что есть очевидность, есть несомненность, причём очевидность в двух формах — чувственной и интеллектуальной, затем корректность, адекватность, достоверность, убедительность, эффективность. По поводу эффективности тоже можно порассуждать, потому что она касается человеческой природы, природы общества и природы материальной вещи. А если говорить о вере, то вот здесь я использую термин «достоверность», то есть истина веры — это достоверность предмета, в который мы верим, то есть удостаиваем его нашей веры. Если предмет достоин веры, то в этом проявляется его истина как предмета, в который мы верим.
А. Козырев
— Если я не ошибаюсь, то «достоверность» происходит от слова «вера» в греческом языке, поэтому в основе одного из измерений истины как раз «вера», «уверенность», «достоверность». Мы говорим: «Достойно есть яко воистину блажити тя, Богородицу». Вот достойно верить в то, что является истиной. И здесь мы видим, как неразрывно сочетается религиозная ткань бытия и вот такая научная ткань бытия. Вот само слово «истина», священник Павел Флоренский говорил о том, что оно похоже на глагол «есть», на глагол «быть». Истина — это то, что есть, это то, что существует, это то, что достойно существовать. Как вы относитесь к такой этимологии?
И. Докучаев
— Это очень точное объяснение, причём не только лингвистическое, но и философское объяснение понятия истины, которое, мне кажется, гораздо точнее, чем алетейя греков, потому что здесь дело не в том, что вот что-то нам не открыто, то, что скрыто, тоже может быть истинным. Важно, существует нечто или нет, или только кажется, как говорил чеховский герой. И русский язык в слове «истина» подчёркивает онтологическую суть того, что мы называем истиной, то есть истина — это то, что есть, то, что существует, а не то, что кажется.
А. Козырев
— Но в то же время это то, что предстоит перед нами. Греческий глагол «хистами» — «находиться в вертикальном положении», «ставить», в каком-то смысле истина предстанет. Помните, как у Андрея Платонова? У нас недавно была конференция в Сириусе, которая называлась цитатой из Андрея Платонова: «Если пред нами предстанет истина», то есть вот что делать, если вдруг она пред нами предстанет? Мы повернём за поворот, а тут истина стоит целиком. Надо, наверное, к этому как-то быть готовым, и готовым в том числе и в жизненном измерении, потому что она может предстать перед нами ещё на протяжении нашей жизни. А может, когда мы уйдём к Господу или с нами что-то случится, произойдёт, и вот именно тогда перед нами предстанет истина, и нужно быть готовым к этой встрече.
И. Докучаев
— Вот я говорил о том, что бытие — это, прежде всего, отношение человека к миру, его переживания, но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы говорить о бытии, хотя это фундаментальный его смысл. Мы, когда говорим, что что-то существует, имеем в виду всегда тот факт, что мы с этим имеем дело. Но, как нас упрекают объективно мыслящие философы, материалисты, объектно ориентированные философы, они говорят: «А как же быть, например, с какими-нибудь мезозойскими представителями фауны и флоры, которые вымерли 200 миллионов лет назад, они что, не существовали? Мы же с ними дело не имеем, как с этим быть?» Vне очень нравится в этом отношении философия Николая Гартмана, который различал два типа бытия — бытие, которое вот здесь и теперь разворачивается, оно как раз связано с нашим отношением к этому миру, но еще и бытие «так»: такой своеобразный дополнительный смысл сущего, который показывает нам, что это сущее есть вне зависимости от того, относимся мы к нему или нет, или было вне зависимости от того, относимся мы к нему или нет. Это так называемое так бытие, вот здесь очень важно, что оба эти смысла объединяются понятием констатации, это важный момент.
А. Козырев
— Вот я вспомнил в начале нашей программы слова Христа: «Я есмь путь, истина и жизнь». А сейчас вспомню слова, которые были сказаны за пять веков до Богоявления, до явления Господа нашего, Парменидом, греческим философом из Элеи: «Быть и мыслить — одно». Вот здесь нет слова «истина», как бы вы прокомментировали эти слова Парменида применительно к истине — где, в каком зазоре здесь истина?
И. Докучаев
— По поводу Парменида я много писал. Во-первых, мы понимаем его слово «быть» в таком экзистенциальном контексте XX века, тогда как под «бытием» он понимает всю совокупность сущего, а не переживание человеком этого сущего и отношение к нему. Когда он говорит, что «быть и мыслить — это одно и то же», он поясняет: «ибо без бытия, которым ее изрекают, мысли тебе не найти» (это я даю перевод Алексея Лебедева). Здесь имеется в виду тот факт, что помыслить можно только существующее, а несуществующее помыслить нельзя, это, в принципе, понятно любому логику — бессмысленный бред, мысль о несуществующем, вот про это он говорит. А если касаться моей концепции, которую я только что попытался очень быстро и, может быть, не очень внятно характеризовать, то здесь имеется в виду та истина, которую я называю истиной «так бытия». Это как раз вот та облигаторность констатации, обязательность, которую мы фиксируем, когда признаем что-то существующим. Например, мы говорим, что то, что я сейчас вижу, не может не существовать, сложно это себе представить. Можно, конечно, попытаться в этом тоже усомниться, как это сделал Рене Декарт, он сказал, что это все, может быть, нам снится только, и пришел к выводу о том, что и пусть оно нам снится, но я думаю, что оно есть, и этого мне достаточно для того, чтобы признать его существующим. А можно, как Пифагор и некоторые современные математики-интуитивисты, говорить, что благодаря эйдетической интуиции мы созерцаем вот эту идеальную сущность числа и не можем в ней усомниться. В любом случае, в первой и во второй ситуации мы под бытием понимаем констатацию факта существования вещи. Парменид, мне кажется, об этом, что мысль всегда о бытии, если она о небытии, то это пустая мысль, ложная мысль.
А. Козырев
— Но ведь ни Парменид, ни Декарт не дожили до 3D-очков, до виртуальной реальности, до того, что сегодня мы можем эти самые очки надеть. Я особенно не практикую, но знаю, что есть люди, особенно молодые, которые ходят в специальные залы для игр и очень странно себя ведут. То есть ты смотришь на человека в этих очках и не понимаешь, что он делает, а он живёт там в своей реальности, он там с кем-то сражается, он водит какой-то мыслимый автомобиль, то есть это что — обманка, заблуждение? Это насильственное помещение себя в небытие или в какую-то неподлинную реальность, или всё-таки это тоже бытие, которое человек себе напридумывал, намыслил, и в этом намысленном он пытается как-то освоиться и, может быть, даже бежать туда из нашей реальности? Как бы вы это объяснили с точки зрения философа?
И. Докучаев
— Прекрасный вопрос. Про это в последнее время просто море публикаций, одна из наиболее интересных — книга Дэвида Чалмерса «Реальность +», у феноменологов корейских, очень много интересных публикаций.
А. Козырев
— Северные или южные?
И. Докучаев
— Южные. Северные про чучхе пишут, про опору на собственные силы. Я северных, кстати, тоже хорошо знаю, поскольку был в Пхеньяне и работал на их семинаре по чучхе. Нужно сказать, что виртуальная реальность, конечно, на сегодняшний день не в состоянии заменить подлинную хотя бы потому, что, например, не созданы симуляции всех наших предметов, которые мы воспринимаем различными органами чувств, только аудиовизуальные и отчасти тактильные. Вот, например, большая проблема — симуляция запахов, поскольку тут сложная очень природа этой рецепции, пока не удаётся, хотя я читал про то, что какие-то работы они стараются проводить.
А. Козырев
— Симуляция вкуса, по-моему, прекрасно работает. Любой купи какой-нибудь недорогой имитатор икры, чего только они не научились уже.
И. Докучаев
— Да, но при этом вы должны именно этот объект попробовать реально на вкус, а не цифровую симуляцию, вам представленную.
А. Козырев
— Реально, да. И всё равно симуляция будет отличаться.
И. Докучаев
— Да. Пока таких стимуляторов, которые бы воздействовали на рецепторы виртуальными какими-то цифровыми средствами и порождали бы соответствующие паттерны, не придумали, но, ещё раз говорю, что работа идёт полным ходом.
А. Козырев
— «Работа адовая будет сделана, и делается уже», как говорил Маяковский в разговоре с товарищем Лениным, да? (смеются)
И. Докучаев
— Да. Пока мы в такой ситуации находимся, когда точно понимаем, что виртуальная реальность неполноценна, она и есть вот та самая обманка. Я помню, года три назад была выставка обманок в Эрмитаже, это такой жанр, мы понимаем, что искусство нас не обманывает, оно как бы предупреждает нас. Это реальность условная, она в кавычках, она в рамке, она на сцене. А вот был такой жанр, особенно популярный в эпоху рококо — положить на стол фрукты так, чтобы их никто от реальных фруктов не отличил. Вот такая интересная выставка была. И виртуальная реальность, она про то же, она пытается заместить подлинную реальность, не из каких-то злых целей, а просто человеку любопытно, можно ли создать такую вот симуляцию. Кстати, в ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет) в свое время с Юрием Петровичем Зинченко (я же еще профессор Российской академии образования) мы занимались исследованием возможности применения виртуальной реальности в образовательном процессе. У нас много было медицинского оборудования, мы замеряли давление у школьников, смотрели, как они вообще себя ведут, насколько меняются их сенсорные способности. Так вот — это очень опасный инструмент. Несмотря на то что человек понимает, и слава Богу, пока еще понимает, что разница есть между виртуальной и подлинной реальностью, он тем не менее ее воспринимает во многом как подлинную. Повышается кровяное давление, начинаются какие-то психопатические и истерические процессы. Если тебе показывают что-то страшное, неприятное, это гораздо более эффективный способ воздействия на человеческую психику, чем, скажем, телевизор, где все-таки симуляция несущественна. То есть, если об этом говорить, то мы понимаем, что виртуальная реальность в перспективе может вполне подменить подлинную реальность.
А. Козырев
— У нас еще в детстве (в моем-то точно и в вашем, наверное) была виртуальная реальность в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Вы в Питере росли, там, наверное, имени Кирова был парк. Это комната смеха — 15 копеек отцу не жалко, запустили... Я до сих пор не понимаю, чему там нужно было смеяться. То есть мы ходили вдоль каких-то зеркал, зеркала эти искажали нас: то карапуз, то живот какой-то большой, то голова в инопланетное существо превращается. Собственно говоря, то же самое мы видели по телевизору, когда нам показывали заседания пленума в ЦК, там тоже были странные существа, люди, смешного не было ничего абсолютно. Может быть, было некое удивление, как в кунсткамере, но это тоже была своего рода искажённая реальность и, выходя, ты понимал, что, слава богу, мир не таков, каким ты видишь его в этих зеркалах.
И. Докучаев
— Вот этот пример ваш лучше немножечко дополнить, потому что, кроме комнаты смеха, ещё была комната страха.
А. Козырев
— Это позже.
И. Докучаев
— Я это помню, начиная где-то с конца 70-х годов. Я был маленьким мальчиком и боялся очень этой комнаты страха.
А. Козырев
— Это когда чехи привезли луна-парк, там была даже не комната ужасов, а такой паровозик, целый коридор, кто-то тебе затылок почёсывал...
И. Докучаев
— И вот это гораздо ближе к той теме, которую мы сейчас обсуждаем, потому что в комнате смеха ты понимал, что эти искажения связаны просто с оптическим обманом. А в комнате страха тебе пытались подменить подлинную реальность реальностью ужаса в той мере, в какой им это удавалось. Понятно, что, если ты взрослый человек, это не удаётся, но ребёнок очень восприимчив, он действительно пугался, боялся, и оттуда вытаскивали иногда детей в полуобморочном состоянии. Вот это про то, о чём мы сейчас говорим.
А. Козырев
— То есть истина боится подмен, она там, где мы свободны.
И. Докучаев
— Мы должны быть настороже и пытаться различать истинную ложь, потому что ложь стремится постоянно выдать себя за истину.
А. Козырев
— Как в магазине нам пишут — «бойтесь подделок». Бывает, что недобросовестный производитель что-нибудь подсовывает, не творог, а именно «творожное изделие», то есть что-то туда намешали. Вот бойтесь подделок! И в мире, бытии, тоже есть подделки, подмены, и в религии есть подмены.
И. Докучаев
— И что интересно, человечество всячески старается их производить.
А. Козырев
— Да, предлагают какую-нибудь теософскую муть и говорят, что вот это и есть как раз вершина религиозного сознания, а вы там со своей консервативной традиционной религией ничего не понимаете, потому что надо быть продвинутым эзотериком. Опять-таки, это подделки, подмены неопробированные. Вот вы сказали, что есть восемь критериев у истины, а можно ли какой-то основной, главный, по которому мы можем различить истина это или не истина? Может быть, после перерыва мы вернёмся к этому вопросу, потому что я думаю, что смысл нашего разговора не только в том, чтобы открыть перед радиослушателями какие-то имена известных философов прошлого и настоящего, но в том, чтобы и в жизни нашей мы стремились жить по истине, а не по лжи. У Солженицына была такая работа — «Жить не по лжи!». Не по лжи — это значит по истине, это значит всё-таки стараться держаться чего-то настоящего, естественного, подлинного и, в конце концов, спасительного, потому что для верующего человека истина спасает.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях профессор Института философии Санкт-Петербургского университета, заведующий кафедрой онтологии и теории познания, академик Российской академии художеств Илья Игоревич Докучаев. Мы говорим сегодня об истине в философии и вере. В предыдущей части я задал вопрос: что же является главным среди этих восьми признаков, которые вы выделяете в вашем втором томе, ещё не вышедшем томе, который мы ждем, книги «Бытие и истина», что же является главным маркером, атрибутом истины?
И. Докучаев
— Я вернусь тогда к этим восьми типам, потому что это действительно важно, и коротко их ещё раз воспроизведу. У нас есть восемь типов сущего, с которыми мы имеем дело. Во-первых, это наши переживания мира, это наши чувственные ощущения, мышление, психические процессы. Во-вторых, это то, что в этих процессах нам открывается, то есть это чувственно воспринимаемые предметы и идеальные объекты, такие как, например, числа, прежде всего математические объекты. Затем у нас имеются различные гипотетико-дедуктивные выводы из этих математических объектов и логических форм. И вот по отношению к этим четырём типам сущего выделяются первые четыре типа истины. «Мы называем переживание истинным, если мы не сомневаемся в нём», как нас учил Рене Декарт, и, соответственно, ложным, если мы находим возможность усомниться, при этом не обязательно отрицать эти переживания, достаточно усомниться в них, чтобы они приобрели оттенок ложности. По поводу чувственно воспринимаемого мира мы можем говорить о том, что какие-то предметы нам кажутся, а какие-то поистине присутствуют. К примеру, нам кажется, что Солнце меньше Земли просто потому, что соответствующий оптический обман это порождает. Затем идеальные объекты, которые мы воспринимаем, их форму истины также, как и чувственных объектов, это их очевидность. То есть это такие аксиомы той же геометрии, которые очевидны, и сомневаться в них нет никакой возможности, вроде постулата о том, что через одну точку можно провести только одну линию. Затем мы говорим об истине выводов логических, употребляя термин «корректность».
А. Козырев
— Ну, через одну точку можно ведь много провести. Может быть, через две?
И. Докучаев
— Да, это линия — кратчайшее расстояние между двумя точками. А по поводу одной точки здесь спор — одну линию можно провести, бесконечное количество или ни одной. Но все эти вещи абсолютно недоказуемы чувственным опытом, это исключительно интеллектуальная интуиция, которая у математиков представляет собой аналог.
А. Козырев
— А вот очевидность. Вот мы говорим — очевидность критерии истины и об этом многие писали. У Ивана Ильина была книга «Путь к очевидности», где он говорил, что есть много типов очевидности, например, математическая очевидность.
И. Докучаев
— Две очевидности основные — это очевидность чувственно воспринимаемого объекта, который мы устанавливаем прежде всего благодаря тому, что он нам дан в полноте его смысла и непредсказуемости. Так Гуссерль определял эвиденциальность предметов. Соответственно, очевидность аксиомы — это невозможность её сформулировать иначе.
А. Козырев
— Но ведь бывают слепые, слепорождённые, вот не видят они.
И. Докучаев
— Для них нет этой очевидности.
А. Козырев
— И, кстати, часто в уловках таких риторических мы, выступая, говорим — «очевидно, что...», «всем известно, что...», но часто это бывает далеко не очевидно и далеко не всем это известно, а очень даже не многим, но раз мы сказали «очевидно», люди приличные поспорить с нами постесняются.
И. Докучаев
— Чувственно воспринимаемый мир как раз так и устроен.
А. Козырев
— По-моему, как раз очевидность — это очень такая шаткая вещь, а если мой взор замутнён, а если у меня бельмо на глазу, а если мои чувственные параметры — я не совсем здоров или у меня какая-то искажённая психика?..
И. Докучаев
— Я сейчас к этой теме вернусь, дорасскажу об оставшихся четырёх. Про одно мы уже говорили — про достоверность как истину предметов, в которые мы верим и которые достойны веры. Затем есть классическое понятие истины — это научная истинность, это адекватность высказывания некоторому реальному положению дел. Про корректность я сказал, это немножко другое, это когда мы, используя логические правила вывода, сделали теорему, вывели её из аксиомы. Затем очень интересный вопрос — вопрос истины художественного произведения, это ещё один тип истины, я её называю убедительностью, когда художественное произведение действительно убеждает нас в том, что так можно создавать условный реальный мир.
А. Козырев
— У Кандинского было хорошее понятие, раз вы академик Академии художеств — внутренняя необходимость. То есть когда ты чувствуешь, что по-другому нельзя.
И. Докучаев
— И у Романа Якобсона аутопоэтическая необходимость была, то есть вот мы творим, но, есть некая логика, с которой мы должны согласовывать наше творчество, которое сами же и производим. Затем у нас есть техническая вещь, вот та же кружка, у неё тоже своя истина, я её называю истиной эффективности, то есть, если кружка разбилась, она уже не является объектом, который может исполнить свою функцию. Эффективность материального искусственного объекта, который мы создаём, прежде всего в его возможности исполнять функцию, которая в нём содержится.
А. Козырев
— Аристотель говорил: «Causa efficiens» — «действующая причина».
И. Докучаев
— И есть ещё два типа сущего, по поводу истинности которого можно подискутировать. Мы в прошлый раз говорили про достоинство человека, вот мне кажется, это как раз истина человека, и про справедливость общества, это тоже, мне кажется, истина общества, и здесь вот как раз очень тесно смыкаются все наши ценностные ориентации и вопросы об истине. А теперь возвращаясь к тому, где же критерий и что очевидность — это шаткая конструкция: все семь типов истины...
А. Козырев
— Или восемь?
И. Докучаев
— Первый тип — это истина переживаний, а остальное — это так называемые истины «так бытия», они все шаткие. Может найтись атеист, который скажет «я не верю в вашего Бога», может найтись человек, который скажет «это произведение — полная чушь художественное, оно неубедительно для меня», может найтись человек слепой, который скажет «я вообще не вижу, о чём вы говорите». Но нет такого человека, который бы подверг сомнению вот этот картезианский принцип о том, что я могу сомневаться в том, что существует чувственно воспринимаемый мир, а также все эти произведения искусства, предметы веры и прочее, но я не могу сомневаться в том, что я думаю, что он существует. И вот этот первый тип истины, истины несомненного отношения человека в мысли к миру, он наиболее фундаментальный из всех вот этих восьми типов истины. Это важнейший момент, который философия предложила человечеству, и он недостаточно оценён, с моей точки зрения. Вот этот картезианский ход, его много обсуждали в ХVIII, ХIХ, ХХ веках, он остаётся наиболее актуальной темой для обсуждения именно потому, что это радикальный способ отличить ложь от истины.
А. Козырев
— А не похож ли Декарт на апостола Фому неверующего? «Вот пока не вложу персты, не буду убежден, что это Христос».
И. Докучаев
— Похож. Декарт был, кстати, глубоко верующим человеком, он все эти попытки предпринимал именно для доказательства бытия Бога.
А. Козырев
— Но ведь апостол Фома, хоть его и прозвал народ неверующим, на самом деле был верующий человек, апостол.
И. Докучаев
— Но Христос сказал, что лучше бы вы уверовали не так, как Фома. Но и так можно прийти к Богу.
А. Козырев
— Мы же его не исключаем из «пантеона», из числа апостолов, у каждого свой путь к Богу. Наверное, путь Иуды Искариота совершенно неприемлем, не подходит, потому что он связан с апостасией, с предательством, с отступничеством. Причём предательство возможно тогда, когда ты знаешь, что есть истина, то есть, если ты заблуждаешься — ну, ты совершил ошибку, это не предательство. А вот когда ты знаешь и намеренно отрицаешь ради каких-то корыстных целей, 30 сребреников или ещё чего-то, как раз это лишнее доказательство того, что истина есть, если её возможно предать.
И. Докучаев
— Это прекрасный пример того, что практически любые ценностные категории, в том числе и предательство, очень хорошо согласуются и с понятием истины, и с понятием бытия. Это то, с чего мы начали, что всё в философии, да и в жизни нашей, и в культуре настолько тесно взаимосвязано, но нужно уметь видеть эти взаимосвязи и слышать.
А. Козырев
— А Фома всё-таки сомневался и требовал каких-то дополнительных подтверждений, поэтому, может быть, его надо назначить каким-нибудь патроном философов. Потому что философы, им всегда мало, когда говорят им: «поверь» — нет, давайте, доказывайте.
И. Докучаев
— Слова Христа о том, что блаженны те, кто поверили без этой проверки, несколько подрывают авторитет философии.
А. Козырев
— Но ведь философия — вещь небезусловная для христианской культуры. Афины и Иерусалим, извечный спор между ними идёт.
И. Докучаев
— По-моему, Лев Шестов написал про это книгу.
А. Козырев
— Да, и Лев Шестов как раз был сторонником ценности именно Иерусалима, но всё-таки были и другие философы, которые понимали, что Афины тоже кое-что могут дать вере, и вере иногда нужны такие вот «строительные леса».
И. Докучаев
— Мне кажется, что в условиях современного мира, очень атомарного, персонализированного, без философской подготовки вера не выживет, это инструмент для дискуссий.
А. Козырев
— Можно даже сделать такое предположение, что невероятный рывок технологический, антропологический, был вызван именно этим катализатором, когда Афины соединились с Иерусалимом. Вера соединилась с поиском рациональных способов её подтверждения, аргументации, и ничего плохого в том, что мыслители искали доказательства бытия Бога, не было. И искали, кстати, не только в западной католической, но и в русской мысли мы можем найти Зиновия Отенского, который также искал и аргументировал, или Державина нашего великого, который в оде «Бог» воспроизводит те же доказательства.
И. Докучаев
— Сегодня существует так называемая аналитическая теология, мы все её знаем, там, конечно, эта тема вполне себе актуальна, это не какая-то схоластика.
А. Козырев
— Суинберн, кстати сказать, который стал православным человеком, занимаясь вот этой аналитической теологией, аналитической философией.
А. Козырев
— Мы сегодня говорим об истине, но я думаю, что невозможно не вспомнить о правде. Михайловский Николай Константинович говорил, что есть такая теория двуединой правды для русского человека. Есть правда-истина и правда-справедливость. Есть даже такое мнение, что для русского человека истина не так важна, для нас важна правда, поиск правды, поиск справедливости, правдоискательство. Ради поиска правды мы на всё пойдём, даже себя потеряем, лишь бы утвердить правду. Так ли это? Действительно ли в ценностном отношении истина для русского человека ниже правды? Или всё-таки правда и истина — две стороны одной медали?
И. Докучаев
— Это хороший вопрос в контексте всех наших постмодернистских споров о том, что истины вообще не существует никакой или её ровно столько, сколько мнений на этот счёт. Первое, что я хотел бы сказать, что здесь полностью солидарен с классической теорией истины, высказанной очень хорошо в метафорическом суждении Гуссерля: «Истина одна, воспринимают ли её в своих суждениях ангелы или чудовища, люди или Боги». Вот здесь надо жёстко стоять на этой позиции, иначе мы вообще утратим почву для любого разговора. Истина одна, то есть не существует каких-то разных реальностей, несогласованных друг с другом, параллельных, в которых в одной реальности одна истина, в другой реальности другая. Мы живём в одном едином мире. Это важный момент. А что касается правды, то если руководствоваться этимологией этого слова, как нас учил Павел Александрович Флоренский, слово «правда» связано со словом «право», со словом «правота...»
А. Козырев
-Со словом «право», пошел направо или налево. Ошую или одесную. Вот одесную (справа) разбойник спасся.
И. Докучаев
— И мы не должны так жёстко противопоставлять правду и истину, как, например, Бердяев сделал в своей знаменитой статье «Философская истина, интеллигентская правда». Он, по сути дела, показал, что правда — это искажение истины в этой статье. С моей точки зрения правда — это как раз тот тип истины, который касается социального сущего. Если общество справедливое, если в нём уважаются права людей, социальных институтов, которые представляют интересы этих людей, то у такого общества есть справедливость и правда. Кстати, справедливость и правда — однокоренные тоже слова.
А. Козырев
— Конечно и вообще правда для русского человека — это закон. То есть русская правда, правильно.
И. Докучаев
— А истина — это, скорее, такое понятие, которое включает в свой состав правду. То есть это родовое понятие, по отношению к которому правда — это её вид, касающийся истины социального сущего. Мы уже говорили, что истина может быть у наших восприятий, истина может быть у наших идей, истина может быть у наших выводов, истина может быть у наших научных теорий, у художественных произведений, предметов веры и переживаний. И есть истина у такого явления как человеческое общество, и вот она связана с понятием правды, справедливости, правильного пути. Я бы не противопоставлял, я бы включил правду в систему истин, о которых мы сегодня говорили, как один из видов истины. Это существенный момент.
А. Козырев
— Для русских философов всегда было очень важно, и для Соловьёва, и для Трубецкого — оправдание добра.
И. Докучаев
— Да. Но, у Флоренского «Столп и утверждение истины».
А. Козырев
— Истины, да. Кстати, это тоже слова апостола Павла, сказанные о Церкви. То есть «столп и утверждение истины» — это Церковь для апостола. И Флоренский ищет в своей книге те аспекты, которые связаны с церковностью, это и премудрость, и дружба.
И. Докучаев
— Вот это очень важный момент, на который тоже надо бы обратить внимание, что никакой религиозной истины не может быть вне Церкви. Протестантизм, собственно, и пришёл к атеизму, потому что отрицал Церковь. Как только соборный дух, который поддерживает отношения верующих в истине, исчезает, у каждого появляется свой собственный бог, своя истина, и происходит тот самый распад истины, о котором мы говорили в связи с постмодернистской философией.
А. Козырев
— Если мы представим себе литургию как вершину жизни христианина, то единым сердцем и устами единомыслие исповедуем, мы читаем «Символ Веры» и никто не говорит: «давайте каждый изложит свою точку зрения, мы их потом обсудим после литургии, за чаепитием, например». Нет, это принципиально важно, что единомыслие исповедуем.
И. Докучаев
— Вот не знаю, прав я или нет, но я всегда в своих лекциях по религиозной истине говорю, что истина может быть только в Церкви, только в религиозном сообществе, если мы говорим об истине веры. Это такая истина, которая принципиально соборна, коллективна.
А. Козырев
— А истина, общество, правда?
И. Докучаев
— А это другая история. Социальные истины касаются профанного мира. Это же не истина веры.
А. Козырев
— Но есть точка зрения, что истина может быть выявлена путём голосования, путём референдума, путём большинства голосов.
И. Докучаев
— Нет, мы тут не выявляем истины, мы выявляем тенденции и мнения различных людей, то есть мы тут конфигурацию интересов выявляем.
А. Козырев
— То есть общую волю нельзя поставить на уровень истины, это что-то другое?
И. Докучаев
— Нет, референдумом это не выясняется. Для меня очень важна вот эта пара понятий — констатация и конструкция. Конечно, во всякой констатации есть доля конструкции. Мы, когда констатируем даже физический закон, его некоторым образом конструируем. Вот Гуссерль всю жизнь искал констатации, он хотел найти истину, которую он констатирует с такой обязательностью, с какой по-другому уже никак. Но он, в конце концов, признал, что «всякий раз, когда я приближаюсь к вещи самой по себе, я нахожу что-то в ней от „я“, привнесённое от меня самого». А с другой стороны, был такой замечательный Глазерсфельд, основоположник радикального конструктивизма в философии второй половины XX века, который, в конце концов, признался, что во всякой конструкции, если она не мертва, есть элемент констатации такого облигаторного бытия, которое нельзя не зафиксировать, даже конструируя его.
А. Козырев
— В этом плане у Кандинского очень интересная конструкция — это внутренняя необходимость, это органическая целостность художественного произведения, и в этом она подражает органической природе, живому существу, где есть эта внутренняя необходимость. То есть человека мы можем себе представить только имеющего голову, руки, ноги, скелет, сердце, другие внутренние органы, и здесь нет возможности взять и пересобрать человека так, чтобы, например, в нём было 15 сердец и не было других органов.
И. Докучаев
— Да, поэтому, когда мы говорим о социальных институтах, о референдумах, о вопросах и о конструкциях разного рода, мы различаем вот этот конструктивный момент от истины как констатации, как мы уже договорились. Но мы понимаем, что бывают победители в этих референдумах, которые, тем не менее, лживы, и в их победе нет никакой истины. Бывают такие режимы политические, которые захватывают власть, но они лживые насквозь.
А. Козырев
— Кстати, в «Русской мысли» сначала Победоносцев, потом Иван Ильин много говорили о том, что наивны те, кто думает, что к истине можно прийти путём голосования, потому что в голосовании участвуют люди, далеко не всегда очистившие своё сердце, свою душу. Это консервативный тезис, конечно, но тем не менее это позволяет нам представить, что есть разные уровни приближения к истине. Вот где-то социологический опрос, исследование ВЦИОМ может приближаться к истине, потому что оно может показать нам нынешнюю ситуацию в обществе, какие-то замеры. Но это не истина сама по себе.
И. Докучаев
— Нет, это очень факультативный момент. Если они совпали, некая высшая справедливость и мнение общества на этот счёт, то это скорее милостью Божией благополучная случайность. Но чаще всего, как мы знаем, этот гул толпы от истины очень далёк.
А. Козырев
— Поскольку нам нужно скоро завершать, может быть, задаться вопросом: а обычному человеку стоит задумываться об истине или достаточно того, что он живёт и выполняет те обязательства, которые он на себя взял, рабочие, семейные, может быть, и религиозные, если он принял Крещение, посвятил себя служению Богу? Или всё-таки он должен периодически осуществлять такую ревизию, как мы осуществляем переучёт в магазине или генеральную уборку в наших домах перед Пасхой, перед какими-то праздниками? Вот внутри себя нужно ли задавать этот вопрос — а что есть истина? Или это вопрос праздный? Ведь кто его задаёт в Писании? Его задаёт Пилат. И в этом вопросе риторическом как бы слышится ответ: истины нет. Христос на этот вопрос не отвечает. Помните картину Ге, где Он в тени отворачивается от ритора, который стоит перед ним с простёртой рукой. Что есть истина? То есть истины нет. Всё-таки вот этот вопрос стоит ли задавать себе?
И. Докучаев
— Я убеждён, что стоит. И здесь я хотел бы вспомнить ещё одного выдающегося философа XX века Хайддеггера, который прямо определял сущность человека как обязанность, долг задать вопрос о бытии и истине. Природа человека такова, что мы уже рождаемся с некоторым вывихом, как Достоевский ещё говорил.
А. Козырев
— Первородным грехом.
И. Докучаев
— Да. То есть нас забрасывает в этот мир, и мы не можем понять с самого начала, каково наше место в этом мире, и мы должны это место определить. А это значит, мы должны задать вопросы и об истине, и о том, что существует, а что нет, и кто мы такие, и зачем мы здесь, о смысле жизни, о ценностях и наших идеалах. Это те вопросы, которые каждый человек должен себе задавать.
А. Козырев
— Вот в этом, наверное, и есть такая терапевтическая функция философии, что она позволяет нам дополнительно как-то укорениться в этом мире, соотнести себя с теми высокими ценностями и идеалами, которые предлагает нам вера, Священное Писание, поучения выдающихся людей, мудрецов. Всё это очень важно, очень ценно, и в то же время есть наша жизнь, она уникальна, она единична, нам её надо прожить так, чтобы, как говорил писатель, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Нам её надо прожить, не разменять на какие-то безделушки, а прожить серьёзно, поэтому философия здесь может выступать в качестве такого подспорья и для веры, и для человека и, конечно, в центре философии — вопрос об истине и о смысле жизни. Я благодарен нашему сегодняшнему гостю, профессору Илье Докучаеву, за то, что он продолжает ставить для себя эти вопросы в своих книгах, в своих работах, и желаю, чтобы они появлялись и дальше, и приносили пользу нашим слушателям.
А. Докучаев
— Спасибо большое, Алексей Павлович.
А. Козырев
— Спасибо. До новых встреч в эфире Светлого радио, Радио ВЕРА, в программе «Философские ночи».
Все выпуски программы Философские ночи
Псалом 47. Богослужебные чтения

Из каждого правила, конечно, бывают исключения. Но обычно всё (к радости или к печали) более-менее соответствует имеющимся порядкам. И яблоко действительно падает недалеко от яблони. В том смысле, что дети часто очень похожи на своих родителей. Это необходимо учитывать при прочтении псалма 47-го, что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
Псалом 47.
1 Песнь. Псалом. Сынов Кореевых.
2 Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его.
3 Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне её город великого Царя.
4 Бог в жилищах его ведом, как заступник:
5 ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо;
6 увидели и изумились, смутились и обратились в бегство;
7 страх объял их там и мука, как у женщин в родах;
8 восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли.
9 Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог утвердит его на веки.
10 Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего.
11 Как имя Твоё, Боже, так и хвала Твоя до концов земли; десница Твоя полна правды.
12 Да веселится гора Сион, и да радуются дщери Иудейские ради судов Твоих, Господи.
13 Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его;
14 обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду,
15 ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождём нашим до самой смерти.
Псалом 47-й был написан неизвестным автором во времена жизни святого пророка Илии, когда древний Израиль не был уже единым государством. Но оказался разделён на две части — северную и южную. Юг был верен истинному Богу, а север довольно скоро стал языческим. За что и укоряли евреев-северян ветхозаветные пророки. В том числе и Илия.
О времени написания псалма косвенно свидетельствует ещё упомянутый в тексте эпизод с гибелью фарсийских кораблей. Из Фарсиса (иначе Тарса) — города, располагавшегося там, где сейчас находится южное побережье Турции, в историческую Палестину возили серебро и другие драгоценные металлы. Почему же псалмопевец радуется крушению морского каравана? Потому что ценности должны были пойти на обеспечение союза иудейского царя Иосафата и нечестивого правителя северного царства Охозии или иначе — Ахазии. Этот союз мог привести к тому, что порочные нравы севера могли проникнуть на юг.
Опасность была действительно велика. Ведь Охозия — сын ужасных правителей — супругов Ахава и Иезавели — и сам жил во грехе, и других к порокам склонял. За что и поплатился. Охозия опрометчиво залез на крышу своего дворца, упал оттуда и сломал позвоночник. Помощи он стал просить не у Бога, а у жрецов Ваала. А вразумлений пророка Илии не слушал — даже хотел погубить святого. В итоге так и умер — в страданиях и греховном безумии.
Но вернёмся к тексту псалма. Его автор прославляет Иерусалим (город Господень) и храм истинного Бога, который находился в столице Иудеи. Псалмопевец восхищается мощью стен, крепостью построек. Они являются символом могущества Божия. Читаем в псалме: «Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог утвердит его на веки». Сквозь весь псалом проходит мысль о том, что праведнику не нужно искать защиты помимо Господа. Союзы с грешниками благословение Божие оттолкнут, лишив людей защиты. Потому автор и призывает своих слушателей и читателей быть верными Господу. И он прославляет Бога, встающего на защиту праведников: «Славно имя Твоё, Боже, и хвала Тебе — до пределов земли; правды исполнена десница Твоя».
Прозвучавший псалом служит историческим доказательством того, как важно жить в мире с Богом и своей совестью. Грех пытается нас очаровывать, внушает мысль, что через него мы можем познать радость. Но это не так. Грех разрушает и опустошает. Он довёл до состояния праха существование Ахава и Иезавели. Погубил их сына Охозию, у которого не хватило мудрости и сил в бытийном смысле откатиться, как яблоку в упомянутой выше поговорке, от дерева образа жизни своих родителей. Мы же давайте следовать призыву псалма 47-го, сохраняя верность Богу и помня, что действия Божия всегда направлены на благо. И даже если мы теряем что-то, что ведёт нас не по пути праведности, а по пути лукавства, не будем скорбеть. Ведь эта потеря не к скорби, а к свободе.
Второе соборное послание святого апостола Петра
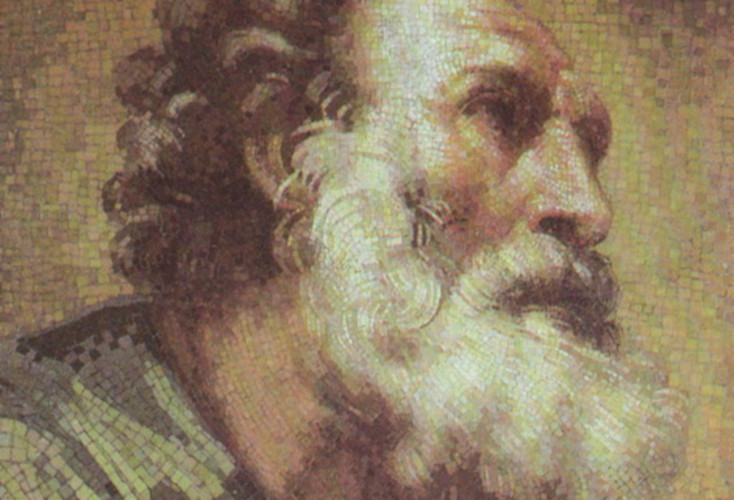
Апостол Пётр
2 Пет., 67 зач., II, 9-22.

Комментирует священник Стефан Домусчи.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА, священник Стефан Домусчи. Порой от людей можно услышать, что они в своё время стали христианами просто на всякий случай. Вдруг Бог есть, — думают они, — тогда лучше креститься, ведь связь с Ним пригодится. Если же Его нет, ничего страшного, не много потеряли. Но можно ли так рассуждать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 2-й главы 2-го послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
Глава 2.
9 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания,
10 а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших,
11 тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда.
12 Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся.
13 Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами.
14 Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия.
15 Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную,
16 но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка.
17 Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы.
18 Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении.
19 Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.
20 Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.
21 Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди.
22 Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи.
Ни для кого не секрет, что современные люди, рассуждая о браке, часто считают, что настоящему официальному браку должен предшествовать брак пробный и неофициальный. Как это обычно говорится: вдруг не сойдёмся характерами, надо же сначала узнать друг друга. Что же, может показаться, что в этом есть своя логика и раз такая точка зрения распространена, разводов год от года должно становиться меньше. Однако статистика говорит об обратном, год от года разводов всё больше. Конечно, причины подобных явлений всегда сложны, но одна из очевидных заключается в том, что беспорядочность пробных отношений разрушает в человеке способность создавать прочные связи. В подобных парах одни обычно испытывают более серьёзные чувства, другие же, напротив, используя любой случай, готовы ими пренебречь. Одни ждут, что отношения закончатся браком, в то время как другие смотрят на них, как на очередные и при необходимости оставляют совершенно спокойно. И хотя блуд плох в любых проявлениях, потребительское отношение к человеку эту греховность явно усугубляет.
Отрывок, который мы сейчас услышали, говорит о людях, решивших выстроить пробные отношения с Богом. Нет, конечно, так прямо они не рассуждали, но фактически не относились к своей вере серьёзно. Как современные люди не всегда называют отношения пробными, но бывают готовы в любой момент собрать вещи и уйти, так грешники, обличаемые апостолом, подчиняясь плоти, готовы были отвернуться от Бога. Ради угождения телу они вели себя, как неразумные животные, ради обогащения были готовы на преступления. Наконец, они не только сами впадали в грехи, но и совращали других. Причём делали это очень тонко — рассуждая о свободе. И снова мы видим параллель с пробными отношениями, в которых всё время педалируется тема свободы и отсутствия обязательств. Из уст апостола звучит горькая ирония — говорят о свободе, а сами порабощены, ведь кто кем побеждён, тот тому и раб. В чём главная проблема этих людей? Они ни к чему не хотят относиться серьёзно, кроме собственных желаний. Они пробуют отношения с Богом, пробуют отношения с людьми и во всём потакают лишь себе, оказываясь предателями и потребителями как в телесной, так и в духовной жизни. Для апостола такое легкомыслие усугубляет их состояние, и он обращает к ним страшный упрёк: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди», ведь они не просто немощные люди, они сознательные святотатцы, пренебрегшие словом Божиим.
Сегодняшнее чтение выглядит строгим и жестоким на фоне многочисленных слов о Боге, который готов принять кающихся грешников. Может показаться, что автор послания представляет Его не как милостивого Отца, но как грозного Владыку, Который строго накажет тех, кто не смог исполнить всего заповеданного. Но не стоит забывать, что автор послания — апостол Пётр, который не только предал Учителя, но и был Им прощён. Самонадеянность ученика обернулась предательством, но покаяние вернуло его на путь общения и любви.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Поддержать будущих мам с вирусом иммунодефицита человека
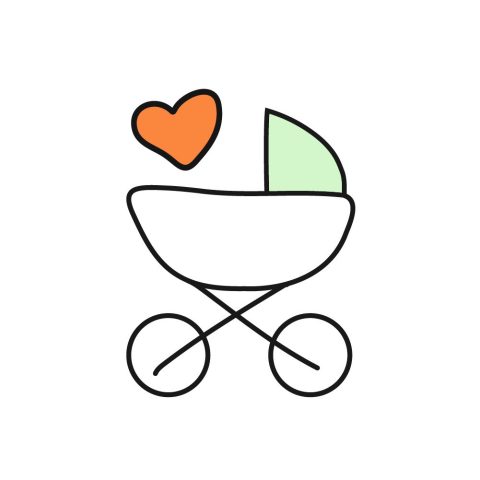
Ирина узнала о положительном ВИЧ-статусе во время беременности. Новость стала шоком. Но в центре профилактики и борьбы со СПИДом девушке рассказали, что с этим диагнозом рожают здоровых детей. Позитивно настроиться и преодолеть тревогу Ирине помогли в Школе подготовки к беременности и родам фонда «Дети плюс».
С 2015 года организация оказывает помощь детям, рождённым с вирусом иммунодефицита человека. У фонда есть программа «Плюс жизнь», включающая курсы, посвящённые беременности и родам. Более четырёхсот человек стали выпускниками проекта с момента его запуска в 2021 году. Одна из главных задач программы — рождение здоровых детей, профилактика абортов и сиротства.
Ирина признаётся, что теперь спокойна и готова рожать, ведь во время курсов получила много информации от специалистов и благодарит организаторов за поддержку.
Другая подопечная — Александра — узнала о своём ВИЧ-статусе в 2018 году. Вскоре девушка познакомилась с будущим мужем, который принял с пониманием новость о её заболевании. В 2023 году у пары родилась первая дочь. Перед родами Саша прошла обучение в Школе фонда и справилась со страхами. Настолько, что осенью прошлого года родила ещё и сына.
А вот Светлане справиться с тревогой во время беременности помогло общение с равным консультантом фонда, то есть с человеком, имеющим аналогичный с подопечным опыт.
Поддержать будущих мам можно на сайте фонда «Дети плюс».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов













