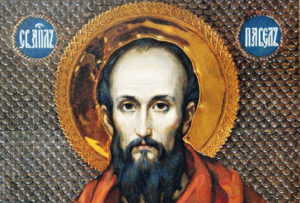Автор фото: М.Казакевич
У нас в гостях был писатель, поэт, профессор японского университета в городе Тояма Вечеслав Казакевич.
Мы говорили о том, как творчество, работа и переезд в другую страну влияют на семью, и как нашему гостю удалось сохранить семейное счастье.
— Добрый «Светлый вечер». Сегодня в студии Константин Мацан —
К. Мацан
— И Анна Леонтьева.
А. Леонтьева
— У нас в гостях писатель, поэт, профессор японского университета в городе Тояма Вячеслав Казакевич.
В. Казакевич
— Добрый вечер.
А. Леонтьева
— Я хотела сразу сказать нашим слушателям, что сегодняшняя встреча в редакции совершенно историческая, потому что Вячеслав Казакевич с 1993 года живет, работает и творит в Японии. И сейчас приехал в Россию, как он считает, в последний раз...
В. Казакевич
— Возможно. Никогда не надо говорить «в последний раз».
А. Леонтьева
— Наверное, да. Во всяком случае для нас это очень большая радость...
К. Мацан
— А почему в последний раз?
В. Казакевич
— Наверное, потому, что с каждым годом все труднее — все-таки трудно осуществлять такие долгие путешествия. И с каждым годом я все больше дорожу временем, в которое можно не выступать, не гулять по московским набережным, хотя это прекрасное занятие, а писать, делать новые вещи.
А. Леонтьева
— Вячеслав, поскольку в этот вечер мы разговариваем о семье, то я, наверное, начну с такого вопроса. Вы приехали с женой в Японию, и сразу или через какое-то время разъехались — стали работать в разных городах.
В. Казакевич
— Да, вначале мы 4 года жили в Осака, там наш сын пошел в японскую школу. Я преподавал в университете иностранных языков, а жена в первое время преподавала в Обществе «Япония — страны Евразии». Но через 4 года мой контракт кончился, и я выиграл новый конкурс — в университет Тояма (это северное побережье Японии), и уехал туда. И после этого 15 лет мы жили... В этот же год сын поступил в университет и уехал в Токио. Наша семья разбрелась по всей Японии в разные стороны.
А. Леонтьева
— Семья образовала такой японский треугольник.
В. Казакевич
— Хорошо, что не бермудский.
К. Мацан
— А что вы преподавали в Японии?
В. Казакевич
— В Японии я читал лекции по русской литературе, русской поэзии японским студентам. Университет Тояма — об этом знают все японские русисты — единственное место, где читались лекции на русском языке. Даже в Токийском университете студентам никто лекции на русском языке не читает, они их просто не понимают. А в университете Тояма я построил преподавание так, чтобы с первого курса цель была такая, чтобы к третьему курсу они понимали лекции на русском языке.
К. Мацан
— А это кто: студенты-слависты, русисты?
В. Казакевич
— Да, это студенты русского отделения, конечно, не все студенты — это студенты только русского отделения.
К. Мацан
— Мы сегодня говорим о семье, но я не могу даже в рамках этой темы не задать вопрос культурологический. О связях японской культуры и русской можно говорить часами. Мы знаем экранизацию романа Достоевского «Идиот» японскими режиссерами, мы знаем про равноапостольного Николая Японского, который принес в Страну восходящего солнца русскую православную культуру. Насколько вы с этим соприкасались, это видели? Насколько и вправду у японцев, как говорят, есть какое-то особое отношение, особая предрасположенность к изучению русской культуры, в частности ее православных корней, видение этих корней.
В. Казакевич
— Я не могу говорить обо всех японцах, я могу говорить только о студентах русского отделения, это такой особый сорт японцев. Могу вам сказать — в моем университете преподавали русский, английский, немецкий, корейский и китайский — несколько языков. И я могу сказать, что большинство иностранных профессоров завидовали мне. Потому что, например, на английский студенты поступали ради бизнеса — после этого, с английским языком, они ищут работу на фирмах, которые торгуют с Америкой и так далее. Китайский — ради бизнеса. Русский — никакого бизнеса. К сожалению, с Россией очень маленькие торговые связи, поэтому на русский язык...
К. Мацан
— Для души.
В. Казакевич
— Нет, не для души — совершенно другая мотивация. Когда приходит студент, я всегда спрашиваю: «Почему вы поступили на русское отделение?» — «Я люблю Достоевского». «Почему вы поступили на русское отделение?» — «Я люблю Толстого». «Почему вы поступили на русское отделение?» — «Я люблю Чайковского». И так далее. Это совершенно редкие люди. Иногда, как и русские, мало приспособленные к бизнес-жизни.
А. Леонтьева
— Наверное, я верну разговор в русло семьи. Знаете, Вячеслав, я когда в юности смотрела западные фильмы: и вот там трагедия у героев — он работает в другом городе, они разъезжаются, несмотря на то, что у них огромная любовь. Они прощаются... И я думаю: какая глупость. Любовь — это же самое главное. Куда же она поехала в другой город? Ей, видите ли, предложили хорошую работу, она, видите ли, начала самореализовываться. А у вас такая русская семья, которая пошла по этому западному сценарию.
В. Казакевич
— Да. Но я хочу сказать, что жить на Западе и сохранять все русские обыкновения и привычки очень трудно. В Японии никто от работы не отказывается. Профессорский пост в другом университете... Огромное количество японцев, семьи живут в разных городах, поэтому мы не были каким-то исключением, это совершенно обычное дело. Нам нужно было платить за обучение сына — он поступил в хороший частный университет токийский. И могу вам сказать, что 4 года, что он учился в университете, потом он еще 2 года учился в бизнес-школе при этом университете — 6 лет мы практически жили на одну зарплату, потому что вторая зарплата полностью уходила на его обучение. Образование в Японии — хорошее образование — очень дорого. Поэтому выбора просто не было.
А. Леонтьева
— Вячеслав, чуть-чуть отмотать назад — а почему вы попали в Японию? Как вы на это решились?
В. Казакевич
— В Японию мы попали совершенно случайно. Жена преподавала русский как иностранный в МГУ на кафедре, и ее просто послали в командировку на 2 года в Японию. В это время, это был 1993 год, всё стремительно менялось и в России и в Японии. И эта командировка, как видите, задержалась на многие и многие годы. Через несколько месяцев после этого жена прислала нам приглашение. Мы могли уже сразу, как dependant — это виза, по которой можно было работать. Но я отказался от этой визы, я взял туристическую визу, потому что я думал: а смогу я там писать, а смогу я там делать то, что я хочу делать? Поэтому мы с сыном прилетели с туристической визой. И в первый же день, когда мы еще мчались над этими горными зелеными реками, видели все эти иероглифы, которые, как пауки, ползут по белым полотнищам, я сразу почувствовал: я смогу здесь писать. Поэтому через несколько месяцев мы выехали для изменения визы в Южную Корею, в Сеул, за 2 недели оформили новую визу и вернулись в Японию уже чтобы искать работу.
К. Мацан
— Мы говорим сегодня о семье и семейных традициях. А с какими семейными традициями пришлось там познакомиться? С чем в этом смысле японцы...
А. Леонтьева
— Мне нравится слово «пришлось».
К. Мацан
— Может быть, и не пришлось, может быть, было радостно. Но чем в этом смысле японский быт семейный похож и не похож на наш?
В. Казакевич
— Я думаю, что семьи там более закрытые — раз. Во-вторых, очень часто женщина не работает, работает мужчина. Надо сказать, что японки очень рациональны. В семье они выполняют как бы ведущую, главную роль. Если у мужчины, какой бы он невероятной красоты и ума ни был, но если у него нет постоянной работы после университета, шансов жениться у него практически нет, ни одна девушка за него замуж не выйдет. Первым делом материальный достаток, чтобы она могла рожать, сидеть дома, воспитывать детей, давать детям образование и так далее. Это самое главное. Могу вам сказать, что мужчина отдает полностью все деньги жене. Мужчине ничего не остается, жена выдает ему деньги на материальные расходы. При этом внешне на людях, конечно, муж — командир, жена не смеет сказать лишнего слова. Это было поразительно и странно, потому что у нас с женой всегда деньги были общие. Их и не было, в общем-то. Но когда их не было, это тоже было общее отсутствие денег. (Смеются.)
А. Леонтьева
— Вячеслав, а вот эти 15 лет — я пытаюсь себе представить и я не могу себе представить: 15 лет вы живете в разных городах. Как вы общались, как вы поддерживали вашу семейную жизнь?
В. Казакевич
— Сейчас я тоже не могу себе представить. Вот смотрите, это ваша «русская» реакция: я не могу себе представить. Я тоже, если бы жил в Москве: что это за чепуха такая — разъезжается семья, распадается в разные стороны? А в Японии японские женщины и мужчины нам завидовали.
А. Леонтьева
— Почему?
В. Казакевич
— «Ой, вы живете, как влюбленные: вы две-три недели не встречаетесь, потом встречаетесь на короткий срок — это так романтично, это так свежо, вы не надоедаете друг другу». И так далее. Конечно, Япония — это совершенно другой взгляд на мир, это то, что нам несвойственно. А так, да. Что нас спасало? Конечно, телефон. Японцы обычно редко звонят друг другу. А мы звонили при каждой свободной минуте: то рассказывали новости, то ссорились — обычное дело. Но мы постоянно были на связи, постоянно.
К. Мацан
— А вы согласны с теми японцами, которые считают, что это очень романтично и здорово?
В. Казакевич
— Нет, я не согласен. Не согласен — все-таки это было испытание, испытание нашей любви, нашей семьи, и способности писать, оставаясь одиноким, без женской помощи, без сына, которого мы очень любим. Конечно, я не согласен с этим.
А. Леонтьева
— Вячеслав, получая от друзей какие-то скудные сведения о вашей биографии, я услышала историю о том, как ваш сын полюбил японскую девушку. Как, благодаря этой любви, она покрестилась. И семья русских верующих православных людей и семья самураев в какой-то момент воссоединились. Вы говорите, что семьи очень закрытые. Наверное, вы были каким-то варваром, я не знаю, для японской семьи, или...
К. Мацан
— Как это было, расскажите.
В. Казакевич
— Давайте я вам расскажу — это действительно интересная история. Сын, как все японцы, он боялся не найти работу, остаться без семьи, потому что он видел по нашей семье, как важно иметь верного товарища и друга рядом. Поэтому, когда он нашел работу, он начал искать жену. Получилось очень удачно: он помогал, присутствовал при встрече разных фирм — и понравился руководителю одной фирмы. И этот руководитель фирмы сказал: «Сева, приезжай к нам на фирму, я тебя познакомлю с хорошей девушкой».
К. Мацан
— Прямо так?
В. Казакевич
— Да, прямо так. В Японии обычно так — по рекомендации. Он приехал, она ему понравилась, и они начали встречаться. Но, когда девушка, японка по имени Фумика — во-первых, она из северной провинции Аомори, эта провинция считается самой консервативной в Японии. Даже японцы говорят, что там жены до сих пор ходят на три шага сзади от мужчины, то есть муж идет, потом три шага, а потом идет женщина. Поэтому, когда приехала домой и сказала: «Я встретила русского и хочу выйти за него замуж», — отец ей сказал: «Три года не смей ни за кого выходить. А через три года хоть за якудзу». То есть родители были очень испуганы, очень возражали. Но бесполезно возражать любви. Поэтому они продолжали встречаться — тайно, конечно, продолжали встречаться. Но поженились через три года. Мы хотели, и сын хотел, чтобы они венчались — в храме в Токио, в соборе. И поэтому Фумика согласилась на это. И чтобы стать православной, она пошла в церковную школу — чтобы принять Православие, нужно целый год заниматься этим. Поэтому, хотя она продолжала работать, а работают японцы очень тяжело, каждое воскресенье она на пять часов, у них был свой преподаватель там же, в соборе...
К. Мацан
— Это собор Николай-До?
В. Казакевич
— Совершенно верно. Она ездила туда, с ней проводили все положенные уроки. И только после этого она приняла крещение.
К. Мацан
— Вячеслав Казакевич, поэт, писатель, профессор университета Тояма в Японии сегодня проводит с нами этот «Светлый вечер». А реакция родственников на переход дочки в иную культуру, в иную религию какая-то была? Знакомство семьи с Православием произошло?
В. Казакевич
— Произошло, безусловно, потому что вся семья собралась на венчание в Николай-До (хорошо, что вы знаете это название, родное такое).
К. Мацан
— Это собор в честь святого равноапостольного Николая Японского, русского миссионера, который принес в Японию православную веру.
В. Казакевич
— Да, правда. Пел церковный хор, было очень красиво. Семья? Ну, японцы вообще достаточно толерантны. То есть для них главная проблема была не Православие, главная проблема для них была то, что иностранец, русский, человек другой культуры и так далее — вот это было главной проблемой. Японцы, понимаете... Вот даже венчание: в Японии полным-полно построено поддельных алтарей, поддельных часовенок, где за деньги устраивают свадьбу на европейский манер.
А. Леонтьева
— Просто как шоу?
В. Казакевич
— Да, просто как шоу. Поэтому японцы к этому привыкли. Но в соборе они увидели, что все-таки это очень серьезно — это не так, как шоу в других...
К. Мацан
— Это таинство.
В. Казакевич
— Да, совершенно верно.
А. Леонтьева
— Они делились своими впечатлениями?
В. Казакевич
— Насчет впечатлений — это было трудно, потому что мы в первый раз только встретились с нашими...
К. Мацан
— Прямо у алтаря.
В. Казакевич
— Да, с нашими родственниками. С отцом и матерью мы один раз встречались раньше — был обед, где мы познакомились, была помолвка. А с родственниками встретились только там. Семья старая, семья консервативная, торговая семья — у них давний бизнес... Это было очень интересно.
А. Леонтьева
— Вячеслав, наш общий с вами друг, один из ваших издателей — Николай Филимонов, рассказывал мне, что существует некий снимок, где семья, когда уже родилась внучка, если я не ошибаюсь...
В. Казакевич
— Да.
А. Леонтьева
— Снимок семьи вот этих суровых самурайских родителей и новоиспеченной православной семьи — то есть внучка соединила эти две непримиримые культуры...
В. Казакевич
— Безусловно, когда родилась внучка, изменился и отец японский... Ну, мать более приветствовала этот брак, наверное, потому что сама хотела жить в городе, не оставаться в провинции — быть свободнее, не выбирать только японца и так далее. Я думаю, что женщины в Японии не так закрепощены, как мужчины.
К. Мацан
— Когда вы рассказывали о вашем переезде, то сказали, что одним из опасений для вас было то, а получится ли писать?
В. Казакевич
— Да.
К. Мацан
— Во-первых, в новой культуре. Во-вторых, что сейчас мне даже кажется более насущным и понятным для большинства наших слушателей — в необходимости жить с женой в разных городах. Вот тут парадоксальная вещь возникает, на мой взгляд. Потому что многие считают, что творчество — будь то писательское, поэтическое, художественное, философское — требует одиночества, некой изоляции. Наоборот, хорошо, что рядом никого нет — я один живу в этом городе, я в своих мыслях, пишу и творю. А вы говорите про что-то обратное. Наоборот, вы боялись: а как я без жены смогу творить, смогу ли? Вот расскажите про это. Для вас вправду есть некая связка между возможностью творить и возможностью быть рядом с любимым человеком?
В. Казакевич
— Я думаю, что если у тебя хорошая семья, если у тебя хорошая жена, то намного удобнее (прошу прощения за это слово, это совершенно не подходит к творчеству), но тем не менее спокойнее на душе и можно спокойнее отдаваться — японцы говорят: потоку и ветру — спокойнее отдаваться литературе, искусству, чему бы то ни было, когда ты чувствуешь, что за твоей спиной любящая тебя, уважающая тебя, интересующаяся тобой жена.
А. Леонтьева
— Я хочу сказать, Костя, что я недавно услышала о том, что Маргарита, жена Вячеслава, она вслух с удовольствием, с наслаждением читает его книги, которые, наверное, она знает уже наизусть.
К. Мацан
— Вслух — кому?
В. Казакевич
— Конечно же, мне! (Смеются.)
К. Мацан
— Это особенно важно.
В. Казакевич
— Да, она читает вслух мне.
А. Леонтьева
— Всегда в нашей семье была традиция — когда сын был маленький, мы читали ему Гоголя, читали ему русскую классику. Но сын уехал, сейчас читать некому. Внучка только подрастает. Моя жена начинает ей читать тоже, внучке 5 лет, она говорит и по-русски и по-японски. А сейчас вот читает мне. И поскольку она, я думаю, — да что думаю, уверен, она любит мои книги, поэтому читает иногда и то, что написал я.
А. Леонтьева
— Если мы заговорили о книгах, то я должна сказать, что с вашими книгами я познакомилась какое-то количество времени назад, и первая книга, которая попалась мне в руки, это «За мной придет единорог». Я должна сказать о впечатлениях — я не выдержу, я поклонница вашего творчества.
В. Казакевич
— Спасибо.
А. Леонтьева
— Над этой книгой плачешь и смеешься — я очень давно так громко не смеялась над книгами и так громко не всхлипывала. (Смеются.) В этой книге описано всего одно лето ребенка глазами ребенка: родители его привозят в деревню и там оставляют, к его жуткому неудовольствию. И за это лето происходит целая жизнь. Наверное, она как-то связана с вашими впечатлениями?
В. Казакевич
— Да, безусловно.
А. Леонтьева
— В этой книге вы прожили такую жизнь за лето. Но вопрос у меня более такой серьезный.
В. Казакевич
— Давайте.
А. Леонтьева
— И я бы сказала, больной: Вячеслав, как вы думаете, современные дети, им доступна эта жизнь, которую проживают дети в деревне — вот с этим огромным количеством подробностей, какой-то живностью, влюбленностью, деревенскими этими ребятами, которые никак не связаны с гаджетами или девайсами, как по-другому говорят. Вашей внучке будет доступно такое восприятие мира?
В. Казакевич
— Не знаю, честно признаюсь. Но в то же время я считаю, что ничего плохого в том, что сто лет назад у ребенка в руках была какая-то деревянная лошадка и тряпичная кукла. Сейчас у него вместо этих наивных и грубых игрушек какие-то другие игрушки — это всё те же игрушки для ребенка, я думаю. Я уверен совершенно. Знаете, было такое старое-старое стихотворение: «Мальчики играют на горе. Триста тысяч лет уже играют. Царства умирают на земле — детство никогда не умирает». Поэтому я думаю — с гаджетами или без гаджетов — у них прекрасное детство должно быть. Должно быть. А уж какое оно, это мне трудно сказать сейчас.
К. Мацан
— Продолжим этот разговор после небольшой паузы. Напомню, сегодня мы говорим об осмыслении семейной жизни с поэтом, писателем, профессором университета Тояма в Японии Вячеславом Казакевичем. В студии моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
А. Леонтьева
— У нас в студии поэт, писатель, профессор университета в японском городе Тояма Вячеслав Казакевич. Вячеслав, вы не разделили моей паники насчет того, что у детей, которые вырастают с девайсами, не будет такого прекрасного детства, как описано в вашей книге «За мной придет единорог». Вторая книга, которая попала мне в руки — это книга о семье «Охота на майских жуков», она тоже невероятно пронзительная. Вы просто рассказываете о родителях, о няне. Родители в этой книге описаны с очень большой долей иронии, местами даже беспощадно, я бы сказала.
В. Казакевич
— Да, правда.
А. Леонтьева
— И при этом в этом чувствуется большая любовь. У меня вопрос такой: в Православии, в Христианстве (во всяком случае, в том Христианстве, которое мы воспринимаем), родители стоят все-таки на неком пьедестале: почитай отца и мать. При этом я понимаю, что книга очень христианская. Вот как это можно сочетать: трезвое отношение к родителям глазами подростка и вот это христианское почитание родителей?
В. Казакевич
— Если говорить обо мне, то у меня получилось так, что как-то незаметно — я даже часто сам не замечал как — родители меня отвозили на лето в деревню, к родителям моего отца. И незаметным образом они стали для меня главными авторитетами в моей жизни — моя бабушка и мой дедушка. Дед был таким, как Пушкин писал «суровый славянин», вот такой кремень совершенно. Но бабушка, может быть, была еще больший кремень. 30-е годы, рядом взрывали церковь, а они были очень верующими. И прошел слух, что когда будут церковь сносить, обязательно ударит молния и убьет всех безбожников. Дед пошел смотреть туда — ударит ли молния? Молния, к сожалению...
К. Мацан
— Не к сожалению, все-таки пощадила людей.
В. Казакевич
— Да, пощадила людей. Прошу прощения, может быть, и так, да. Сгоряча скажешь еще и не такое. Дед пошел смотреть, и когда он вернулся домой, сорвал со стены икону и пошел к печке, чтобы бросить ее в печку. Бабушка встала — а бабушка всегда говорила, что «мужу надо ладить», от слова «лад», — но здесь она встала перед печкой, раскинула руки и сказала: «Бросай меня в печку».
А. Леонтьева
— Ничего себе.
В. Казакевич
— И она защитила икону. Вот эта семья — вот они были для меня примером. И мои родители, которые были советскими чиновниками провинциальными — не то что я смотрел на них свысока, нет. Но я все время сравнивал их с этой тихой, спокойной, строгой и твердой очень семьей. У нас семья была более безалаберная. Наверное, отсюда больше иронии.
К. Мацан
— Мне кажется, это целая тема — именно отношения с бабушками и дедушками. Я это замечаю не только по разговорам, а как-то и по — может быть, я сейчас как-то громко скажу — по тенденции в русской литературе. Я прошу прощения, что упомяну в студии других писателей. Если взять один из таких нашумевших и больших успехов в литературе — роман «Лавр» Водолазкина, там главного героя воспитывает дед. Если взять роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», который получил премию «Русский Букер десятилетия», там тоже главный герой очень любит дедушку. И, собственно, вокруг отношений внука и деда всё выстраивается. И очень многие люди, которые приходят к нам в студию и говорят о своем приходе к вере, в силу абсолютно понятных исторических причин говорят не о родителях, а в первую очередь: на меня повлияли бабушка или дедушка, которые веру застали и сохранили, и даже специально не стараясь, передали. Такой феномен наших дней в отношении внуков и бабушек и дедушек.
В. Казакевич
— Да, это верно. Если говорить о моем поколении, конечно же, наши родители были советскими людьми. А наши бабушки и дедушки, при том что имели советские паспорта, все-таки они были воспитаны в другой культуре с другими корнями. Они сохраняли то, что у родителей уже не было. В нашем доме иконы не было, а у бабушки я спал под иконами.
К. Мацан
— И это как-то влияло...
В. Казакевич
— Думаю, да, потому что каждый вечер, когда меня укладывали в постель, бабушка растягивалась на полу и долго-долго молилась.
К. Мацан
— И всё это в одной избе, в одной комнате.
В. Казакевич
— В одной избе, в одной комнате, поэтому каждый вечер я всё это видел и слышал. Это просто не могло не повлиять. Поэтому, когда мы с женой... Ну, была просто советская свадьба и так далее. Но все-таки, в конце концов мы с ней венчались. Венчались у известного священника — это протоиерей Сергий Вишневский, настоятель храма святых Флора и Лавра в селе Флоровском Ярославской области. Он раньше служил в Москве, но потом переехал туда, где раньше был священником его отец.
К. Мацан
— Вы сказали про то, что все-таки в итоге вы решили повенчаться. А что дает семье, уже сложившейся, уже состоявшейся, венчание? Что прибавляет? Из чего вырастает это желание и эта потребность? Для вас это как было?
В. Казакевич
— Для меня наш брак стал еще священнее, еще чище, еще возвышеннее. В венчании принимал участие наш сын. Венчались мы — пустой храм, полуразрушенный, отец Сергий восстанавливал его. И это настолько сильное впечатление произвело на всех нас троих — на сына, на меня и на жену, что после этого я написал стихотворение, которое сейчас, если вы позволите, я прочитаю.
К. Мацан
— Не то что позволим, а попросим вас прочитать.
В. Казакевич
— Вот стоим мы в церкви: я с женою,
сын со свечкой, тоненькой и пылкой,
и священник возле аналоя
в ризе, что протёрлась над затылком.
А на небе, на алмазном троне
Бог сидит в сверкающих обновах,
смотрит сверху вниз из-под ладони,
видит храмик среди волн сосновых.
И, помедлив, сельскую церквушку,
где четыре человека мёрзнут,
будто детства дряхлую игрушку,
поднимает ласково на звёзды.
К. Мацан
— У меня мурашки.
А. Леонтьева
— Ух! Ты первый сказал. Спасибо огромное.
В. Казакевич
— Не за что.
А. Леонтьева
— Вячеслав, поскольку мы говорили о родителях, я вспомнила такую историю... Ну, я тоже говорила всем, что меня воспитывали бабушка и дедушка. Они, правда, не были верующими, потому что бабушка была такая еврейская ба, ну, и дедушка был еврейский дедушка. И когда я стала вырастать, я начала читать психологические книги. Я выяснила, что у меня было очень много психологических травм, потому родители уезжали куда-то на заработки, что-то еще такое. И у меня возник целый список претензий к родителям, который я гордо несла перед собой. И я помню, что мне исполнилось — Костя, ты не поверишь, 30 лет, — когда на дне рождения я сказала маме: «Знаешь, я, пожалуй, снимаю с тебя все претензии, которые у меня были». И мама заплакала. Скажите, у вас с родителями были какие-то такие?..
В. Казакевич
— Безусловно, были. И почему я чувствую вину до сих пор? Потому что, наверное, это было такое горе от ума. Я очень много читал с детства, такой книжный мальчик был. Моя мать родилась в глухой белорусской деревне. Хотя она и окончила техникум и после этого работала бухгалтером, конечно же, я видел, что многое из того, что я знал уже в 14 лет, мать моя об этом не слышала. Ну, чтобы вы как-то увидели, поняли, какая была у меня мать, которую я очень любил и люблю, давайте я вам прочитаю еще одно стихотворение.
В небе туча плывет нехорошая...
Мать с постели встает тяжело,
закрывает розетки галошами,
чтобы молнией дом не сожгло.
В темной комнате пахнет больницей.
Гром гремит... И с тоской слышу я:
«Это все на своей колеснице
разъезжает по небу Илья!»
Скачет близко огромная лошадь...
Села мама на край простыни
и с надеждой глядит на галошу,
что спасет от пророка Ильи.
К. Мацан
— Спасибо огромное.
А. Леонтьева
— Спасибо.
В. Казакевич
— Конечно же, были претензии. Возможно, другого порядка, чем у вас, но, конечно же, были разные ссоры и споры, безусловно.
К. Мацан
— Они пришли к какому-то завершению, разрешению, переосмыслению с вашей стороны?
В. Казакевич
— Да, конечно же. Потому что я теперь очень хорошо понимаю, что при всей необразованности моей матери, при всем том, что она не знала высокой культуры, литературы, искусства и прочее и прочее, ею двигала чистейшая любовь к детям — во всех ее поступках. И только за эту любовь, я уж не говорю о том, что она родила меня, конечно же, я должен был быть ей обязан. Но когда она была жива, я этого не ценил и не сознавал, а когда она умерла, стало уже слишком поздно.
А. Леонтьева
— Вячеслав, я недавно, думая о вас, перечитывала ваш рассказ «Наедине с тобою, брат», совершенно пронзительный. Вы описываете, как к вам за границу приезжает брат — немножко нелепый, немножко советский, такой раздражающий. И когда он уезжает и смотрит на банку из-под кофе, которую он хочет с собой прихватить, вот всё это такое советское. И в конце концов, вы устаете. И потом он уезжает, и такое пронзительное прощание. Я даже помню последние строки — по-моему, это так... Скажите лучше вы. «Я оставляю на него Россию»...
В. Казакевич
— Да-да.
А. Леонтьева
— Ни много ни мало.
В. Казакевич
— Когда-то я написал стихи:
Дед наш больше не проснётся,
поседела вся родня.
Брат! Россия остаётся
на тебя и на меня.
Я написал это, но уехал в Японию. А Россия осталась на моего хромого, больного и не очень-то удачливого, лучше сказать незадачливого, брата. Но вы помните концовку этого рассказа? — что я ему все время высылаю деньги из-за границы, а деньги мне платят за то, что я рассказываю японским студентам и аспирантам нескончаемые сказки о России и о русских.
К. Мацан
— Почему сказки?
В. Казакевич
— Почему сказки? Потому что я в детстве рассказывал. Мы спали с братом в одной кровати. В семье не было денег на вторую кровать, поэтому мы уживались вдвоем. Он младше меня на пять лет, и вот, чтобы он уснул, он просил меня: «Расскажи сказку». А я говорил: «А ты гладь меня по голове». И вот он меня гладил по голове, а я рассказывал сказки. Вот брат и сделал меня писателем.
К. Мацан
— Какая яркая картина из детства — сразу всё понятно про отношения с братом.
В. Казакевич
— Совершенно верно.
К. Мацан
— Писатель Вячеслав Казакевич сегодня в гостях на радио «Вера».
К. Мацан
— Вячеслав Казакевич, поэт, писатель, профессор университета Тояма в Японии сегодня проводит с нами этот «Светлый вечер». Я вас хочу попросить еще одно стихотворение прочитать, которое меня очень зацепило. Я не хочу цитировать сам, чтобы ничего не исказить. Но оно мне кажется очень важным в нашем разговоре. Я просто напомню — я не помню первую строку, но речь о том, что к лирическому герою, говоря школьным языком, приходит дьявол. Можете напомнить этот текст?
В. Казакевич
— Да, попробую:
С сумасшедшим банковским счётом,
с сундуком драгоценных камней,
с яхтой, с замками, с самолётом,
с садом, полным птиц и зверей,
чёрт явился в мою квартиру,
изогнулся учтиво дугой...
И промолвил ему я тихо:
«Слишком поздно, мой дорогой!
Видишь русских стихов тетрадку,
что в нерусских краях сгниёт?
К сожалению, без остатка
я всю душу вложил в неё».
К. Мацан
— Спасибо огромное. Потрясающе, меня это очень зацепило. Надо сказать нашим радиослушателям, что вы переехали в Японию в 1993 году, а это написано в 2002, если я не ошибаюсь.
В. Казакевич
— Да.
К. Мацан
— То есть это некий итог зрелого размышления о разрыве с Родиной, о смысле творчества и обо всем на свете. Но мой вопрос даже не совсем об этом, а о том, насколько... Я думаю, что человеку в вашей ситуации достаточно естественно было бы затосковать по Родине, задуматься: а правильно ли было уезжать, не оторвался ли я от корней своих? Мы об этом частично говорили сегодня: могу ли я писать в отрыве от той культуры, в которой рожден и воспитан? Я думаю, что кто-то этот кризис может не выдержать. Насколько семья и близость родного человека позволяет тот кризис, который в этой ситуации описан, пережить легче, проще, с минимальными потерями?
В. Казакевич
— Вы знаете, вся моя семья абсолютно уверена, что по одиночке мы бы там не выжили и не остались бы — вернулись бы, безусловно. Потому что с самого начала, когда мы поняли, куда мы попали, и какая жизнь наступила, как-то вдруг у нас наступила новая близость — особая близость. Наш сын был обычным подростком до отъезда в Японию, но Япония совершенно его изменила. Мы возвращались с работы уставшие, голодные, Бог знает, откуда надо было ехать — на метро, чужими дорогами, в чужой совершенно толпе, и язык, который ты не понимаешь (сначала мы ничего не понимали). А сын выходил нас встречать — каждый вечер, хотя у него тоже были занятия в школе. Он готовил для нас ужин, он убирал квартиру... В Москве ничего подобного не было, не готовил он нам ужины. То есть как-то вдруг мы увидели, что что-то трудное, даже мучительное, как оно... Оно действует в двух направлениях: или разрывает семью, уничтожает ее, или же наоборот делает ее еще крепче. Я думаю, что у нас в Японии наступила совершенно особая близость. Японская жена нашего сына ему удивляется. Потому что японцы обычно звонят родителям, ну, может быть, раз в год. Сразу после университета у них очень резко — всё, деньги они зарабатывают сами, живут своей жизнью. И раз в год на Обон они ездят в семью, встретиться с родными могилами. Наш сын звонит нам до сих пор чуть ли не ежедневно, это очень удивляет его японскую семью.
А. Леонтьева
— А я Японии тоже принято расставаться с детьми: какой-то возраст — и до свидания?
В. Казакевич
— После университета, или вернее, как только ребенок начинает работать. Это твоя жизнь: у тебя есть свои деньги — снимай свою комнату или квартиру и живи сам.
А. Леонтьева
— Вячеслав, вы знаете, когда я вас увидела с Маргаритой, даже скажем так: когда я начала читать ваши письма — на вас появился очень сильный японский налет, потому что вы необычайно вежливы. Ваше какое-то утонченное письмо — это первое, что меня поразило. Я подумала, что надо быть с этим человеком очень аккуратной ...
В. Казакевич
— Спасибо.
А. Леонтьева
— Потому что он такой уже «японский».
В. Казакевич
— Я могу вам сказать — одна московская поэтесса, она меня слушала-слушала, и так нервно очень: «Слава! Хватит уже говорить „спасибо“ и извиняться». (Смеются). То есть некоторых это уже даже раздражает. Но тут ничего не поделаешь, потому что в Японии на каждом шагу «сумимасэн», «гомэн насай» или «аригато годзаимас» — все время «спасибо», «извините», все время. Поневоле к этому привыкаешь.
А. Леонтьева
— Скажите, а что-то из японской культуры проникло в вашу семью? Или она осталась такой целостной русской семьей?
В. Казакевич
— Безусловно, проникло. Особенно сын — он намного более японец, чем мы с женой. И нам поневоле приходится в общении с ним это учитывать. То есть мы не задаем каких-то вопросов — есть какие-то вещи закрытые, есть темы, которые трогать не надо. Безусловно, всё это учитывается.
А. Леонтьева
— То есть он более закрытым получается человеком?
В. Казакевич
— Он не более закрытый, он более сдержанный.
А. Леонтьева
— А какие темы нельзя трогать?
В. Казакевич
— Например, денежные темы — это не обсуждается никаким образом: сколько кто получает, какие заработки. Никаким образом не обсуждаются взаимоотношения в другой семье — где были, что ели, что пили. В России любят об этом: а куда вы ходили? Нет, там всё это закрыто. Стараются о своих проблемах не говорить — стараются не нагружать других людей своими проблемами.
К. Мацан
— Вот для вас — это кажется правильным или неправильным? По вашему ощущению?
В. Казакевич
— Я уже к этому привык. А вначале, конечно, это было странно. Вот вы спросили сегодня: а как же вот так, отразилось ли это на творчестве, как вы выдержали всё это? Вот недавно был смешной случай, я рассказывал о нем на вечере. В университет Тояма по обмену приезжают русские студенты из одного из московских университетов. Наши студенты едут туда на стажировку, а русские студенты приезжают к нам. И недавно приехали две студентки, они сказали: «А мы вас знаем». — «Откуда, почему знаете?» — «А нам про вас наш преподаватель рассказывал». Я подумал: о, как хорошо — про мои стихи уже рассказывают в университете. Но тут какая проблема — иногда русские девушки приезжают в Японию и остаются там — выходят замуж и не спешат вернуться в Россию. Поэтому я думаю, это проблема для некоторых вузов, особенно языковых, где обычно занимаются девушки. Поэтому перед отъездом этих двух русских студенток преподавательница собрала и сказала им: «Возможно, вы захотите остаться в Японии. Почитайте Казакевича, задумайтесь». (Смеются.) То есть неожиданно я стал таким средством пропаганды. Я думаю, что вся эта ностальгия и тоска, которые, безусловно, были у меня, они вошли в стихи. Но ведь в том-то и дело — посмотрите, очень многие вещи, пронзительные вещи о России, о русском детстве, о русских людях, ведь они неслучайно созданы за границей. Вспомните Бунина, вспомните Шмелева «Лето Господне» — всё это написано за границей. Всё это тоска и ностальгия диктовали эти прекрасные книги. Поэтому совсем неудивительно, что появилась такая книга, как «Охота на майских жуков», я хорошо знал, откуда она растет.
А. Леонтьева
— Вы так рассказываете, что у меня сразу такой образ русского писателя, который отъезжает подальше за границу, чтобы пожестче погрустить по Родине. (Смеются.)
В. Казакевич
— Да нет. У меня в молодости был такой поэт, тоже молодой, он как-то подошел ко мне и сказал: «Слава, хочу бездны!» И я подумал: нет, милый мой, вот так искусственно... Бездна или приходит к тебе или не приходит. А вот когда ты сам хочешь туда как-то занырнуть, обычно это не получается. Поэтому нет, писатель, который искусственно уезжает за границу, чтобы там ностальгии предаться — это ерунда. Искусственно уехал — он через две недели вернется, чтобы не тосковать.
А. Леонтьева
— Но, Вячеслав, у вас есть жена, которая вслух читает, как мы говорили сегодня, вам ваши произведения. А когда вы приезжаете в Россию, у вас тут целые толпы народа, которые жаждут общаться и носить вас на руках. Вот у меня такое ощущение, что ваша жена перевешивает в данном случае.
В. Казакевич
— Моя жена всегда со мной — и когда вокруг меня толпы народа, как вы выражаетесь, и тогда, когда я один. Она всегда рядом, я всегда чувствую ее присутствие. Недавно, в последней книге есть стихотворение про нее. Если можно, я прочитаю вам это стихотворение.
А. Леонтьева
— С радостью.
В. Казакевич
— Больше не буду тебя обижать,
бешено хлопать дверями!..
Смирно под яблоней стану лежать,
под голубыми шарами.
Станет мне волосы гладить мать,
а я с былинкою в пальцах
примусь счастливо дрессировать
жука в лазоревом панцире.
Не торопись ко мне прилетать
в синем автомобиле.
Так это странно — в вечности ждать
тех, кого мы любили.
К. Мацан
— Спасибо огромное.
А. Леонтьева
— Спасибо. Я сейчас заплачу, наверное.
К. Мацан
— Сегодня говорят, что поэзии не хватает аудитории. Мне рассказывали про одного американского поэта, который живет в Чикаго, который сказал, что «я хороший поэт, поэтому у меня тысяча читателей. Если бы у меня было две тысячи читателей, я был бы плохим поэтом, хуже, чем я мог бы быть, потому что настоящая поэзия — это элитарное искусство». А у вас ситуация в каком-то смысле усугубляется еще тем, что вы пишете на русском, а живете в Японии. И ваши читатели не в вашей стране.
В. Казакевич
— Да.
К. Мацан
— Для вас в этом есть повод к переживанию?
В. Казакевич
— Нет, повода к переживанию никакого нет. Я думаю, настоящего поэта нисколько не заботит, сколько у него читателей — один, два или три. Вы знаете, первая моя японская книга «Ползи, улитка!» кончалась таким стихотворением. Это стихотворение называется «Потом»:
Даже супа не будет с котом,
от всей Земли — ни иголки.
Останутся только стихи потом
у Бога на скромной полке.
Неплохо б было увидеть её,
простую, не очень гладкую,
и чтобы в сборнике тощем моём
месяц торчал закладкою.
А. Леонтьева
— Спасибо.
К. Мацан
— Спасибо большое.
А. Леонтьева
— Вячеслав, я правильно понимаю, что — видите, все-таки возвращаюсь всегда к истории ваших отношений с женой, потому что она меня все равно поражает — я правильно понимаю, что сейчас, когда, как вы говорите, вы профессор в отставке, вы закончили преподавание, у вас есть возможность жить вместе, воссоединиться?
В. Казакевич
— Да. Знаете, это произошло только два года тому назад. И мы 15 лет горячо желали: как хорошо бы вместе жить. А тут мы даже слегка испугались, потому что за 15 лет все-таки появляются некоторые привычки, обыкновения, когда живешь одинокой жизнью. Я захотел — сварил себе это, поел, и так далее. Поэтому, честно говоря, мы оба — и я и жена — встречались с некоторой опаской.
А. Леонтьева
— Заново познакомились.
В. Казакевич
— Слава Богу, всё хорошо.
К. Мацан
— Ну вот, теперь новая семейная жизнь, радостная и полная неожиданных приключений.
А. Леонтьева
— Ну, теперь я успокоилась к концу передачи. Я считаю, что это был какой-то хеппи-энд разговора.
К. Мацан
— Теперь есть повод еще лет через пятнадцать поговорить, можно и раньше, конечно, с Вячеславом Казакевичем, поэтом, писателем, профессором университета Тояма в Японии — о семье, о стихах, о культуре. Ну и, наверное, из всего того, о чем мы сегодня говорили, самое глубокое и пронзительное — это, конечно, о человеческих отношениях, о нас обо всех.
А. Леонтьева
— Спасибо вам огромное.
В. Казакевич
— Не за что. Мне тоже было очень приятно с вами встретиться и поговорить в этой студии о важных и близких для меня темах.
К. Мацан
— Спасибо. В студии моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
В. Казакевич
— До свидания.
А. Леонтьева
— До свидания.
«Зимнее небо»

Фото: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash
Как правило, затянутый тучами, низкими и тёмными, небосвод отражает печальное состояние человеческого ума. Действительно, грехопадение праотцов прежде всего омрачило умственную силу души, подпавшей под тиранию эгоистических похотей и помышлений. Но как иногда зимним днём вдруг погода прояснится и становится видно голубое небо, так и мы призваны внимательно и терпеливо молиться, покуда ум, освободившись, от помыслов и мечтаний, не станет ясным и спокойным.
Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров
Все выпуски программы Духовные этюды
7 января. Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Рождества Христова

Седьмого января в праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, обратился к её верным чадам со словами поздравления.
Все выпуски программы Актуальная тема
7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа

Сегодня 7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
Все выпуски программы Актуальная тема