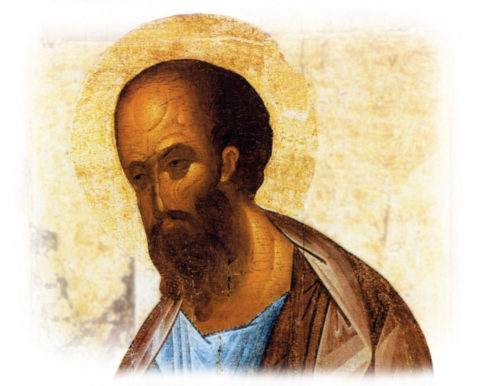В этой программе Кира Лаврентьева и Алла Митрофанова размышляли над тем, какие подсказки оставил Лев Николаевич Толстой в романе «Анна Каренина» о том, как исправлять ошибки в семейной жизни, чтобы они не приводили к трагедиям, и как сохранять семейное счастье.
Ведущая: Кира Лаврентьева
А.Митрофанова
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Эта неделя, посвящённая Льву Николаевичу Толстому... собственно, 4 программы уже были в эфире об этом авторе, с разных сторон мы на него посмотрели, и сегодняшний разговор решили посвятить роману «Анна Каренина».
Для тех, кому интересно, на сайте radiovera.ru можно увидеть и услышать другие программы о Толстом. О том, как он влиял на интеллигенцию своего времени ( так называемый феномен «толстовства» ). В частности, среди почитателей Толстого, в своё время, был святитель Лука Войно-Ясенецкий.
Мы поговорили о «Войне и мире». Не обо всём романе, конечно же, а о тех моментах, где человек с христианской системой смыслов натыкается на серьёзные противоречия со своим мировоззрением. Часто так бывает, что люди, из школы ещё запомнили — вот, здесь у нас положительный герой, здесь — отрицательный герой... значит, вот, эти — во всём правы, эти — нет... и, вдруг, когда мы взрослыми мозгами «Войну и мир» перечитываем, выясняется, что всё не так однозначно, как сейчас принято говорить.
Мы рассматривали и жизненный путь Толстого, и, конечно же, его духовную драму, и говорили о его отношении к смерти — важнейший, в этом смысле, рассказ, один из важнейший, наряду со «Смертью Ивана Ильича», «Хозяин и работник». И, вместе с Максимом Калининым, разбирали, а где здесь могут быть параллели с христианским богословием. И очень, мне кажется, здорово получилось эту тему с разных сторон подсветить.
Я — Алла Митрофанова. И я сегодня слово передаю моей замечательной коллеге Кире Лаврентьевой.
Здравствуй!
К.Лаврентьева
— Аллочка, привет! Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Радио ВЕРА!
Вы, наверное, удивлены, но это — долгожданная программа для нас! Потому, что все, кто знает Аллу Сергеевну, и постоянные слушатели Радио ВЕРА, конечно, не могли не заметить, что Алла является... её полноправно можно назвать экспертом в области многих разделов русской литературы...
А.Митрофанова
— ... что у Аллы Сергеевны свой профессиональный травматизм — это так называется...
К.Лаврентьева
— Ну, нет... я бы это так не назвала. Она, действительно, исследователь русской литературы. Она раскапывает — бесконечно! Мы, может быть, об этом мало говорим, и она сама, по скромности своей, не будет делиться этим...
А.Митрофанова
— Давай и сейчас не будем об этом...
К.Лаврентьева
— ... но мы точно знаем, что все её книги, которые она, действительно, изучает — в том числе, Льва Николаевича — они исписаны карандашами, листочки совершенно затёрты — потому, что она бесконечно изучает какие-то моменты и вытаскивает из них новое.
Сегодня, конечно же, пришло время нам поговорить об «Анне Карениной». Да. Рано или поздно мы к этому обязательно бы пришли. И, несмотря на то, что роман был написан 150 лет назад, его проблемы, и вопросы, которые там поставлены, актуальны и по сей день.
Алла, ну, конечно, в первую очередь хочется спросить, чем, на твой взгляд, этот роман нужен, полезен...
А.Митрофанова
— ... православному человеку?
К.Лаврентьева
— Да, да! Вообще, современному человеку...
А.Митрофанова
— Ну, это — самый часто задаваемый вопрос: зачем православному человеку читать Толстого...
К.Лаврентьева
— Да. Не оригинальный вопрос, но, будем надеяться, что оригинальное — ещё впереди...
А.Митрофанова
— Слушай... если люди читают святых отцов, находят там для себя ответы на свои вопросы, и видят себя в свете евангельской истины таким способом, не лукавят перед собой, выводят себя на чистую воду, выправляют свои искривления, то... совершенно никакого смысла «Анна Каренину» читать для того, чтобы получить импульс...
К.Лаврентьева
— Духовную пользу, да...
А.Митрофанова
— ... работать над собой, да... нет.
Другой вопрос, что художественная литература — она нам даёт возможность с другого угла на себя посмотреть, с другой точки. И, иногда... понимаешь, мы же — сложносочинённые существа, и наша психика очень изворотлива. Она всегда будет нам подбрасывать вариантики самооправдания. А, вот, на это — я закрою глаза... вот, здесь — я себя прощу... вот, здесь — я себя пожалею... а, вот, здесь — я себе разрешу обидеться... И, когда мы, через художественную литературу, начинаем видеть себя — внезапно, в том или ином герое — могут случиться открытия важные. Для наших отношений с Богом.
Вот, в моём случае, для меня, «Анна Каренина» — это, такой, источник внутренней работы, внутреннего поиска, который, естественно, никоим образом, не заменяет Евангелие и святоотеческую традицию, но даёт — ещё один фонарик в руки, чтобы исследовать собственную жизнь, и стараться максимально честно к себе относиться.
Вот, смотри, простой пример. Мы знаем правило, что человек обижается, на самом деле, когда хочет обидеться. И можно... как, вот, знаешь, говорят: чем больше в нас «я», тем легче в него попасть. Потому, что цель, мишень, большая. И, чем больше мы это «я» внутри себя раздуваем, тем легче, соответственно, в нас прилетают какие-то обиды, камушки, и так далее.
Человек, у которого эго максимально сжато, который, при этом — прекрасная личность, цельная личность, насколько это возможно человеку...
К.Лаврентьева
— Раскрытая...
А.Митрофанова
— ... и, при этом, у него сжатое эго... в него крайне трудно попасть! Даже если его намеренно захотят обидеть, он просто может этого не заметить. Просто, может не подумать, и пройти мимо. И этот камень в него не попадёт.
В «Анне Карениной» есть замечательные подсказки, как мы разрешаем себе обидеться. Мы можем, прочтя этот роман, в частности, себя на таких вещах ловить.
Вот, смотри...
К.Лаврентьева
— Интересно, с обид начали... это интересно...
А.Митрофанова
— И мне показалось, что это хорошая иллюстрация — потому, что часто задаваемый...
К.Лаврентьева
— ... самая, такая... избитая проблема... с обидами этими...
А.Митрофанова
— ... да... и к священникам, и к психологам — это один из самых частотных запросов...
К.Лаврентьева
— Да, как отпустить обиды...
А.Митрофанова
— Вот, меня обидели... меня не оценили... и так далее... да?
Ну, во-первых, мы понимаем, что обида — это разница между желаемым и получаемым... между тем, что «мне должны», и тем, что «мне дали». А с чего мы решили, что нам кто-то что-то «должен»?...
И, собственно, сцена, где Анна... она уже глубоко в своей измене... она уже выносит мозг Вронскому... она уже начинает подозревать его во всех мыслимых и немыслимых грехах, неверностях... причём, сама себя ловит на том, что накручивает себя, но отказаться от этого она не может.
И, вот, он возвращается домой после того, как провёл какое-то время со своим приятелем Яшвиным. Она начинает его пилить за это: «Почему ты меня не предупредил... ты должен был быть со мной... ты меня променял, и тебе этот твой приятель дороже! И мне брат передал, что, вот, ты с ним...»
Вронский говорит: «Во-первых, я его ничего не просил передавать тебе. А, во-вторых, я никогда не говорю неправды. Главное — я хотел остаться там, у друга, и я — остался», — сказал он, хмурясь.
А потом, вот, буквально, через минуту: «Анна... зачем?... зачем?» — сказал он после минуты молчания, перегибаясь к ней, и открыл руку, надеясь, что она положит в неё свою в ответ.
Она была рада этому вызову к нежности, но какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться.
«Разумеется, ты хотел остаться, и остался. Ты делаешь всё, что ты хочешь! Но зачем ты говоришь мне это? Для чего? — говорила она, всё более разгорячаясь. — Разве кто-нибудь оспаривает твои права? Но ты — хочешь быть правым, и будь прав!» — рука его закрылась, он отклонился, и лицо его приняло, ещё более, чем прежде, упорное выражение«. Конец цитаты.
К.Лаврентьева
— Это — классический диалог созависимого человека.
А.Митрофанова
— Да.
К.Лаврентьева
— Прям, аж больно слышать, честно говоря...
А.Митрофанова
— Понимаешь?
К.Лаврентьева
— Да.
А.Митрофанова
— И, на самом деле, задолго до того, как это определение «созависимости» появилось в нашей жизни — а появилось оно... в общем-то... недавно — Толстой очень чётко, пошагово, описал, что это такое, через Анну Каренину. Потому, что она — классическая, конечно, созависимая.
К.Лаврентьева
— Да, больно слушать...
А.Митрофанова
— И, поскольку, понимаешь, мы, так или иначе, травмированы ХХ веком... ну, многие...
К.Лаврентьева
— Ещё как...
А.Митрофанова
— ... из наших современников, из нашего поколения людей... у нас, какие-то, там... обиды на родителей... обиды на Бога...
К.Лаврентьева
— На себя...
А.Митрофанова
— ... на себя самих... и много, что ещё... признаки созависимости мы в себе, на самом деле, обнаружить можем. Вопрос — что с ними делать дальше? Потому, что мы понимаем — это термин из области психологии, а только психологией такие вопросы не решаются. Они решаются в сфере духовной жизни. И поразительный, конечно, прорыв романа «Анна Каренина» в том, что... вот, казалось бы, кто бы мог подумать... от Толстого кто мог такого ожидать... там есть инструменты... там есть пути, скажем так, которые Толстой указывает, как можно было бы из вот этого состояния...
К.Лаврентьева
— Деструктива...
А.Митрофанова
— ... расползания себя... вот, знаешь, такого расползания в горизонтали... как бы, рассыпания человека на части... всё больше и больше... как человек расщепляет сам себя на части... как, вот, из этого состояния можно себя собрать и выпрямить, и начать расти в вертикаль. И это — потрясающе! Это то, что замечательная Татьяна Касаткина, лучший в мире эксперт по Достоевскому, называет «самой достоевской сценой» в романе «Анна Каренина».
К.Лаврентьева
— Давай, о ней поговорим, как раз. Что это за сцена?
А.Митрофанова
— Эта сцена — она, действительно, очень важная. Она — кульминационная, в каком-то смысле. Потому, что... ну... мы привыкли кульминацией считать финал романа, где Анна...
К.Лаврентьева
— Ну, понятно...
А.Митрофанова
— ... бросается под поезд, а, вообще, кульминация, как мне кажется, духовная, в этом романе — она, как раз, в самой середине.
К.Лаврентьева
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА продолжается, дорогие наши слушатели!
В гостях... не поворачивается язык сказать...
А.Митрофанова
— В студии...
К.Лаврентьева
— ... в студии — Алла Митрофанова, преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, журналист, ведущая программ на Радио ВЕРА.
Меня зовут — Кира Лаврентьева... да... как Алла уже сказала...
Ну... я о чём хочу тебя доспросить? Всё-таки, давай, вот — про эту центральную сцену... центральную, на твой взгляд... центральную сцену, на взгляд, как раз, ведущих литературоведов... если с духовной точки зрения на этот роман посмотреть.
А.Митрофанова
— Это сцена, когда Анна при смерти, и она только-только родила второго ребёнка. Это ребёнок... давайте называть вещи своими именами... её любовника. Она ушла от мужа и живёт с Вронским. И она, к этому моменту... она уже себя в свете скомпрометировала так, что дальше некуда, она очень сильно испортила жизнь своему мужу, и он на неё злится, и он в обиде и в раздражении из-за всей этой ситуации.
Но, с его стороны, дело не только в том, что Анна ему изменила. А ещё и в том, что... он же привык вести себя так, и жить так, чтобы... «всё было прилично». А теперь уже в свете не получается сделать вид, что «всё прилично». И из-за того, «а что обо мне скажут... а что обо мне подумают»... вот, это ложное чувство стыда — стыда не перед Богом... потому, что перед Богом у него чувства стыда нет никакого — он считает, что он живёт праведно и всё делает правильно... то, что он сделал открытие — оказывается, у его жены есть внутренний мир — он не считает нужным исследовать себя: «А как я раньше мог этого не допускать? А внимателен ли я, вообще-то, к своей жене? А достаточно ли тепла я ей даю?» — вот, этих вопросов он себе не задаёт. А мы же понимаем, что это, вообще-то, тоже повод для покаяния — недодать любимому человеку того, в чём он так нуждается.
Вот, с его точки зрения, пред Богом он абсолютно чист... до этого момента, во всяком случае... а, вот, перед людьми у него есть стыд, и это стыд — ложный. Потому, что стыд, когда он перед людьми, а не перед Богом, он формулируется, примерно, так: «Они узнали про меня, что я не такой... не настолько идеальный, как они от меня этого ожидали». То есть, это — от непопадания в чьи-то ожидания. И это — ложное чувство, конечно, стыда.
А Вронский, к этому моменту — он уже десять раз, вообще-то, пожалел, что сделал свой выбор, между карьерой и Анной, в пользу Анны. Потому, что, в какой-то момент, ему пришлось выбирать: либо он — в незаконных отношениях с этой женщиной, и тогда ему придётся оставить свой полк, либо — он остаётся служить, как офицер, но тогда он не может Анне уделять столько внимания, как это требуется, и нужно... вот... что-то как-то делать... и отношения сойдут на нет. И он, в итоге, сделал выбор в пользу неё. Но... он не чувствует себя реализованным.
Они были в Италии когда, ну... он же там измучился просто. Он измучился потому, что он — мужчина, и ему важно реализовываться во внешней жизни... а она ему всё это заблокировала. И, вообще, она его старается максимально держать при себе и никуда не отпускать. Чтобы... в конце концов, она же... и на свой трагический шаг, вот, этот, вот... на эту катастрофу она решается из принципа «назло маме отморожу уши»: «Пусть он теперь до конца жизни испытывает чувство вины! Вот, я бросилась под поезд — назло ему!»
Ну, это, вот... просто, предел уже, да... такого... помешательства... но — тем не менее... То есть, бесценную, данную Богом жизнь бросать в размен, чтобы кому-то отомстить — вот, это... оно вообще того не стоит. Но Анна уже, в этот момент, совершенно помешанная, и, к тому же, морфинистка.
Вот. И этого всего, вот, кульминация... момент трансформации... и момент, когда появляется шанс выправить эту искривлённейшую ситуацию — у всех троих — это, как раз, сцена, когда Анна чуть не умирает после родов.
Она рожает девочку, которую тоже называют Анной — Ани они её зовут, Ани.
Вот... Родилась девочка, роды были тяжёлыми, Анна — при смерти. Она шлёт записку Алексею Александровичу, своему супругу: «Приезжай, потому, что я могу умереть... я бы хотела проститься».
Алексей Александрович, в этот момент, в таком состоянии, что он, вообще-то, думает: «А было бы хорошо, чтобы она умерла — всем было бы легче. Проблема бы, так сказать, решилась бы сама собой. Я — остаюсь вдовцом, меня здесь, в этом плане, уже больше ничто не связывает, и отвечать мне ни перед кем не надо. И не надо решать вопрос — что там... развод... не развод... и, вот, это, вот, всё...
К.Лаврентьева
— Детей забираю...
А.Митрофанова
— ... да... детей, соответственно, забираю».
И, при этом, он подозревает Анну в манипуляции. А она к манипуляциям, действительно, склонна. Поставить человека на чувство вины, или вынудить его сделать что-то так, что будет выгодно ей, и что не будет соответствовать внутреннему устройству, внутренней логике поступков того человека, на которого её эта манипуляция направлена.
Он её подозревает в манипуляции. Но она же ему честно написала, что она, действительно, при смерти. Но отношения уже зашли в такой тупик, что — он ей не верит, просто. Он ей не верит. Он думает, что она всё это придумала.
И, когда он приезжает... он, естественно, тут же берёт билет на поезд, он приезжает к ней, в её кабинете он видит Вронского, который, при виде Алексея Александровича... он, прям, как цыплёнок, начинает голову в плечи вжимать...
К.Лаврентьева
— Тоже, такой, момент красноречивый...
А.Митрофанова
— Да, да! Потому, что он — вор.
К.Лаврентьева
— Да, да...
А.Митрофанова
— В отношении законного супруга, он — вор, в этот момент. И перед ним — человек, у которого он украл. И он, вообще-то, перед этим человеком несёт колоссальную ответственность за то, что разбил его жизнь. И он понимает, что, вот, Анна его вызвала, и сейчас будет какой-то разговор...
И Алексей Александрович — он, по правде говоря, когда узнал, что она, действительно, больна, он испытал некоторое угрызение совести, что мог её заподозрить в обмане, в манипуляции... но, при этом, не испытал облегчения, когда узнал, что она, всё-таки, может выжить.
И он заходит к ней в комнату, а она, в этот момент, в бреду. И что он слышит? Он слышит, как, вот, эта женщина, причинившая ему столько боли, сколько ни один другой человек ему в жизни не причинял, женщина, которую он готов был бы проклинать, женщина — причина того катастрофического положения, в котором он оказался, она, в бреду, говорит: «Что же он не едет?... Что же Алексей Александрович не едет?... Ах, если бы он был здесь... Наверное, Серёжу ( сына ) забыли покормить... А если бы он был здесь, то он бы обязательно проследил... Он такой добрый... он сам не знает, насколько он добр!...» — и Алексей Александрович стоит и всё это слушает. И у него внутри, просто... у него, вообще... трансформация! У него всё меняется одномоментно! Он видит перед собой жену, которая, оказывается...
К.Лаврентьева
— ... его любит.
А.Митрофанова
— ... так глубоко смогла его разглядеть! Потому, что она говорит правду о нём. Но ту правду, которую он сам о себе не знает. И такую правду о нас могут сказать только самые-самые близкие нам люди, которые с нами живут бок о бок, которые знают нас, как облупленных, которые нас чувствуют лучше всех, и которые видят ту полноту и красоту, которую, быть может, мы сами в себе не замечаем.
И Анна, оказывается, все эти годы, видела всё это в Алексее Александровиче, но сама себе в этом не признавалась. Она же... она же тоже привыкла плыть по течению в отношениях, не привыкла в них вглядываться, не привыкла к отношениям относиться, как к той драгоценности, которую Господь нам даёт, чтобы мы начали расти Ему навстречу. Ведь, муж и жена в отношениях призваны достичь той полноты и цельности, и близости, которая есть между Лицами Пресвятой Троицы — вот, эта нераздельная и неслиянная жизнь вместе, вот, эта радость от полноты вместе, где каждый — это личность. Цельная. И не созависимость никакая, а — цельная личность. Вот, к этим отношениям муж и жена призваны в семье, призваны в супружестве своём. И это — потрясающая красота! И это — то, что могло бы быть в жизни каждого из нас. Когда бы мы друг в друга вкладывались, и спрашивали бы с себя, а не друг с другом выявляли отношения, предъявляли счёты... там... выдвигали какие-то требования, обиды и прочая, и прочая...
Это — то, что в «Братьях Карамазовых» у Достоевского старец Зосима объясняет простыми словами: «Жизнь есть Рай! Если бы только мы все захотели, то уже завтра жили бы в Раю! Если б мы только захотели увидеть этот Рай!» — вот, и это то, к чему мы призваны. И это — то, что происходит в этой, абсолютно «достоевской», на самом деле, сцене в «Анне Карениной».
И Алексей Александрович — он поражён тем, что говорит о нём его жена, и как она глубоко его видит! Понимаешь? И у него происходит — вот, это, вот — перемена ума, «метанойя». И Анна — она тоже... ведь, она впервые в жизни делает для себя это открытие.
И он к ней кидается... он рыдает у неё на руке. Понимаешь?
К.Лаврентьева
— Вот, я хотела тебя спросить... Если пофантазировать, и попытаться, хотя бы, виртуально, на словах — вот, сейчас, в рамках нашего с тобой разговора — переписать... переписать роман... как ты думаешь, могло бы ли это стать новым началом?
А.Митрофанова
— Конечно.
К.Лаврентьева
— То есть, если бы она дальше не начала закапываться в деструктив...
А.Митрофанова
— Не только она, они — все... они все — слили этот шанс, понимаешь?
К.Лаврентьева
— Они ж могли новую жизнь начать...
А.Митрофанова
— И Алексей Александрович, и Вронский... они все этот шанс слили!
К.Лаврентьева
— ... поговорить... сказать: «Слушайте... что-то не то тут у нас получилось!» Вронский — собрал свои манатки и ушёл, а они — остались вместе.
А.Митрофанова
— Да.
К.Лаврентьева
— Такая мечта есть светлая у меня об этом!..
А.Митрофанова
— Знаешь, очень здорово! Очень здорово!
К.Лаврентьева
— Ну, правда... это было бы очень хорошо.
А.Митрофанова
— Да... да... это правда! Это, вот... знаешь, как... кризис семейной жизни, из которого люди выходят на новый уровень...
К.Лаврентьева
— ... выпрыгиваешь... ты выпрыгиваешь... одна, отталкиваешься и выпрыгиваешь...
А.Митрофанова
— Да. На новый уровень постижения друг друга. И — постижения Бога. Потому, что, когда между мужем и женой умножается, растёт любовь — растёт Божие присутствие!
К.Лаврентьева
— Это — чудо настоящее!
А.Митрофанова
— Это, как раз, то, к чему мы призваны. Любовь умножать. А не пинаться... локтями... воспринимая ближнего, как помеху справа, помеху слева...
Это — то, что, как раз, и есть Евангелие в нашей жизни. Возлюби ближнего, как себя... как продолжение себя... как того, кто с тобой — нераздельно и неслиянно, с которым ты — цельное, и, при этом, цельность свою собственную сохраняешь.
Вот... конечно, это было бы очень здорово. Это был бы тогда роман про святость.
К.Лаврентьева
— Сейчас так много говорят о семье, о любви в семье, об умножении любви в семье... и ты слушаешь это, и думаешь: «Ну, хорошо... это мы послушали. А вы научите, как это делать практически!» И сейчас ты такие фундаментальные пласты поднимаешь...
А.Митрофанова
— Это не я, это — Толстой...
К.Лаврентьева
— Да, но ты нашла это, именно этот момент ты выбрала. Там можно было очень много разных тем поднять. Но ты выбираешь самый проблемный момент нашего общества — неумение любить. Это — такая боль, это неумение любить!
А.Митрофанова
— Ох, это не только наша проблема, это — в целом, да...
К.Лаврентьева
— Ты упираешься в чувство собственной немощи, и у тебя вариант — либо прорваться, с Богом, сквозь неё... через боль, возможно, никто не отрицает, что это может быть очень трудно... либо — ты пасуешь, и говоришь: «А, ребята... любовь прошла... я пошёл искать другую». И, когда ты находишь этого другого, ты понимаешь, что — вот, там было настоящее. Ведь это очень часто повторяется. Бывают, конечно, какие-то трудные семьи, трудные отношения, но, ведь, вот, этот механизм «а я разлюбил и пошёл» — он, к сожалению, очень популярен.
А ты сейчас говоришь о том, что мы должны постичь истинную любовь к своему супругу...
А.Митрофанова
— Там, понимаешь, в «Анне Карениной», конечно, сложность в том, что...
К.Лаврентьева
— ... раскопать, вот, это всё...
А.Митрофанова
— ... она его не выбирала. А он — не выбирал её.
К.Лаврентьева
— Но, вот, этот момент — он показывает, что она его любит...
А.Митрофанова
— Да. И, понимаешь... и, если даже через это пройдя, она смогла такое увидеть в своём муже, то, представляешь, какой потенциал в этих отношениях?
К.Лаврентьева
— Вот.
А.Митрофанова
— Как... и мне так жалко, что всё это потом... всё это они — обнулили. Понимаешь? Обесценили, как сейчас любят говорить... модное слово... Опять, вот, это открытие — обесценили. А это же — открытие Божьего присутствия друг в друге, между ними, и, вот, этой полноты жизни и радости.
Она ж ещё и Вронскому... понимаешь, она же его потом призвала и попросила, чтобы они друг другу пожали руки. И Вронский, в этот момент, когда он стоит рядом с Алексеем Александровичем и видит этого рыдающего человека... вот, этого состоявшегося, состоятельного, могущественного на службе, который перед ним сейчас рыдает, как ребёнок — безудержно и безутешно — рядом с умирающей женой... он видит его в момент, казалось бы, слабости, и понимает: какого величия и какой красоты человек стоит перед ним! Понимаешь?
Вот, как, кстати, Достоевский про эту сцену пишет, что, в этот момент, первые стали последними, последние стали первыми. То если, допустим, Вронский считал себя первым, в отношении Алексея Александровича...
К.Лаврентьева
— ... да... то тут он понял...
А.Митрофанова
— ... его считал полным ничтожеством — он обманутый муж, и, вообще... то здесь он видит — полноту, высоту, красоту этого человека. И его невероятное достоинство. «И кто я перед ним?» — в этот момент... да?... вот, Вронский — кто он перед Алексеем Александровичем?! Вот, понимаешь, ещё тоже... И, осознав себя, свою, вот, эту маленькость, по сравнению с этим гигантом человеческого сердца, он, на самом деле, может быть, впервые, даёт себе адекватную самооценку. А это, ведь, тоже невероятно важно для того, чтобы и у Вронского, впоследствии, случился его собственный прорыв.
К.Лаврентьева
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА.
Мы, с Аллой Сергеевной Митрофановой, преподавателем кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, ведущей программ Радио ВЕРА, обсуждаем «Анну Каренину» Льва Николаевича Толстого.
Меня зовут Кира Лаврентьева.
Мы вернёмся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь!
К.Лаврентьева
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА продолжается.
Дорогие наши слушатели, у нас сегодня очень необычная программа, и, в качестве гостьи, у нас ведущая Радио ВЕРА — Алла Сергеевна Митрофанова, преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО. Наконец-то! Наконец-то, мы можем поговорить с ней о Толстом уже официально, спросить её, что она обо всём об этом думает!
И, ты знаешь, я вот о чём думаю... Ты страшно захватывающе рассказываешь — это не комплимент никакой, правда, так и есть...
А.Митрофанова
— Это Толстой так пишет...
К.Лаврентьева
— Чувствуется, что... ну, понимаешь... чувствуется, что за этим стоит твой личный глубокий анализ межличностных и супружеских отношений, и, вообще, механизмов любви.
Я прочитала «Анну Каренину» рано, и она меня ужаснула. Алла, ты знаешь, она меня ужаснула... и я сейчас, разговаривая с тобой, думаю, хочу ли я её перечитать? Нет, не хочу. Знаешь, почему? Потому, что там настолько страшно и правдиво описан механизм страсти...
А.Митрофанова
— Да...
К.Лаврентьева
— ... что, когда ты читаешь, у тебя душа просто сотрясается и содрогается от ужаса, и ты думаешь: «Если такие люди падают, то что говорить обо мне? Что говорить о нас?» Мы никогда не должны зарекаться в своей праведности, мы не должны закрываться в своей косности, куда уже не может пробиться благодать Божия, в своей... вот, этой... знаешь... в социальной личине, в которой закрылся Каренин, в своих страстях, созависимостях и самолюбии, в которых закрылась Анна... То есть, это какие-то очень серьёзные вещи. И Вронский тоже, я уверена, там совершенно тоже... не совсем здоровый человек, если он, вообще, влез в систему семьи — в принципе, это в обществе вообще тогда не было принято. Ни разводов не было... ничего не было...
А.Митрофанова
— Ты знаешь, ну... изменяли-то — изменяли. К сожалению. То есть, не будем идеализировать. Просто, Анна сделала так...
К.Лаврентьева
— Не будем... но тут всё очень серьёзно... очень далеко зашло...
Как ты думаешь, почему Лев Николаевич, всё-таки, довёл это до такого страшного апогея? До поезда. Почему он Анну, в итоге, к этому подвёл, и не случилось, вот, той самой метанойи, о которой мы с тобой говорили в первой части этой программы?
А.Митрофанова
— Ну, это вопрос, скорее, ко Льву Николаевичу Толстому...
К.Лаврентьева
— Ну... у тебя есть... я думаю, у тебя есть какие-то, вот, свои соображения на этот счёт.
А.Митрофанова
— Ты знаешь... мне кажется, что Толстой, всё-таки, в большей степени, психолог. Достоевский — в большей степени... как бы это сказать... даже не то, чтобы богослов...
К.Лаврентьева
— Мыслитель...
А.Митрофанова
— ... да... он — духовный мыслитель. А Толстой — он, в какой-то момент, уже встаёт на путь... такого... очень серьёзного для себя духовного поиска, приводит это его самого к катастрофе, но, как художник, он... как мне кажется, в первую очередь, он — психолог. Вот... во-первых.
А, во-вторых... Ты знаешь, у Толстого, как художника, есть прорывы в описании присутствия благодати Божией в жизни человека. Но у Толстого — как Толстого — как мне кажется... вот, этого опыта было... недостаточно. А, ведь, так или иначе, художник, когда творит, он пишет «из себя», он себя выплёскивает, себя препарирует... он, во многом, пишет о том, что, так или иначе, либо пережил, либо, с помощью эмпатии, прочувствовал, пропустил через себя.
И... у Толстого есть абсолютно гениальные... вот, «Смерть Ивана Ильича» — это глубоко христианское произведение. Когда человек перестаёт, на пороге смерти, бояться смерти. Ровно потому, что, впервые в жизни, внимание от себя переключил на других людей. Понимаешь?
Есть замечательный «Хозяин и работник» — рассказ, о котором мы здесь с Максимом Калининым говорили, где тоже — важнейшая трансформация с человеком случается, вот, именно, накануне смерти.
И... есть, вот, эти озарения у Толстого. И даже его сестра, Мария Николаевна, монахиня Шамординского монастыря — она рассказывала о своём сне, который... ну, она говорит: «На нашем монашеском языке это принято называть «тонкий сон»: «Сидит Лёвочка, — я сейчас перескажу этот сон от себя, — и, как будто бы, он что-то пишет, и я — смотрю откуда-то со стороны на него, и вижу, как откуда-то сверху невероятный свет начинает изливаться на него. Изливается свет — необыкновенный, невероятный... — она не говорит там слово «фаворский», но, по описанию, мы понимаем, что тот трепет, который она испытывает, может быть сродни тому, что переживает человек в моменты, вот, такого, удивительного откровения Божьего присутствия в жизни. — И, вдруг... что-то очень тёмное как будто бы подходит к нему сзади, и начинает захватывать его... захватывать, и отнимать у этого света. И тут я проснулась, и услышала, как будто бы у себя в голове: «Свет Христов просвещает всех!» — вот, такое было удивительное видение человеку, который бесконечно Льва Николаевича Толстого любил, который постоянно за него молился...
К.Лаврентьева
— ... и до последнего пытался его спасти.
А.Митрофанова
— Да. И... как знать... вполне возможно, что спасла. Потому, что... что происходит в последние минуты жизни в сердце Льва Николаевича Толстого — это тайна его и Господа, мы не знаем, что там.
Мы знаем, что его окружение не допустило к нему старца Варсонофия. Мы знаем, что ему не дали исповедаться и Причаститься. Ему, вообще... ну, так сказать, его оградили от внешнего мира, изолировали даже от Софьи Андреевны, и... и он, в каком-то смысле, оказался заложником... а что там внутри него? На этот внутренний мир никто из его окружения претендовать уже не мог.
Вот, они пленили Толстого от всего мира, но они не могли закрыть Толстого от Бога. И — как в эти последние минуты жизни там... что развернулось в его сердце, что там произошло?
Понимаешь... по молитвам того же старца Варсонофия, который смиренно под дверью стоял... по молитвам его сестры, Шамординской монахини Марии Николаевны... по молитвам ещё других людей, которые его любили... мы не знаем...
Мы знаем, что Толстой, в своих рассказах, говорил о том, какая важнейшая трансформация на смертном одре с человеком может произойти.
Ну, вот, в рассказах у него это есть. В «Анне Карениной», в самом романе, этого нет. И, ты знаешь, там... более того... Константин Левин ( или Лёвин )...
К.Лаврентьева
— Лёвин...
А.Митрофанова
— ... потому, что Лев Николаевич себя называл «Лёв»... и, поэтому, Левина правильно было бы называть Лёвин... это же... ну, как принято...
К.Лаврентьева
— Альтер-эго, да, такое, Толстого? В романе...
А.Митрофанова
— Да-да-да... это — его собственный путь, его исследования, и автобиографические черты. Но, в частности, когда Левин своей невесте Кити даёт свой дневник прочитать — это же эпизод, который имел место в жизни самого Льва Николаевича и юной Софьи Андреевны. Она... увы... прочитала этот дневник Льва Николаевича, со всеми его похождениями, была шокирована, и... в общем... это, конечно, была ошибка. И Толстой — с нами щедро делится: не надо! Не надо так травмировать своих любимых своими косяками и искривлениями! Проработайте их перед тем, как вступать в отношения! Не надо тащить эту грязь в чистоту семейной любви... не надо! Защитите своих любимых от того опыта, который у вас был. Потому, что мы — люди, мы — слабы, и это, так или иначе, потом где-то вылезет.
Бедная Кити — она же потом, всё время, думала о том, что: «А, вот... у него было то-то... у него было то-то в жизни... раньше...» Трепетать над отношениями надо, как над божественным даром!
К.Лаврентьева
— Ну, мы себя, через это, освобождаем!
А.Митрофанова
— Да.
К.Лаврентьева
— «Я сейчас расскажу — и мне станет легче».
А.Митрофанова
— Ну, вот, понимаешь...
К.Лаврентьева
— Перегружу...
А.Митрофанова
— ... да... и — перекину с больной головы на здоровую...
К.Лаврентьева
— ... перекину на другого человека — пусть со мной несёт!
А.Митрофанова
— Да. Давайте, всё-таки... мы понимаем, что призваны носить тяготы друг друга, но есть ответственность...
К.Лаврентьева
— Но не так...
А.Митрофанова
— ... есть ответственность друг перед другом. Давайте друг друга щадить, любить и защищать — от той грязи, которая в нашей жизни была. Мы это с Господом можем вместе разделить и понести — Господь поможет из этого выйти, и чтобы этого в нашей жизни больше не было.
Ну, короче... Левин ( или Лёвин ) эту ошибку совершает. Толстой — нас, таким образом, предупреждает... опять же... там подсказок таких — миллион, просто, на протяжение всего романа. И духовные поиски Левина — это описаны духовные поиски самого Толстого. Он, как бы, понимаешь, производит ревизию смыслов.
Есть общепринятые вещи. Рождение ребёнка — это хорошо. Семья и брак — это хорошо. А он задаётся вопросами — а почему это хорошо? Ему важно самому, как Пастернак писал, «во всём дойти до самой сути»! Это очень честный путь. Он не лукавит перед собой, он не идёт проторенной дорогой — потому, что так надо, потому, что так принято. Он — вот, так устроен. И ему важно найти собственные ответы на эти вопросы. И он этот поиск ведёт, и Толстой это всё фиксирует, и это — потрясающе, конечно.
Но что мы видим в конце романа? Счастливый, состоявшийся семьянин, человек, с которым рядом его любимая женщина, которой он так добивался, о которой он так мечтал. Его драгоценная Кити — она с ним. Она рожает детей. У них дом — полная чаша. Он занимается хозяйством. Он включён в эту жизнь здоровой стороной.
И — что мы видим? В конце романа, Левин прячет от себя ружьё, и ходит с верёвкой. И, как бы, боится того, чтобы не повеситься и не застрелиться. Понимаешь? Вот, этот надлом, который есть внутри у Толстого, очевидно, даже в счастливые моменты его жизни, он есть и в романе. Понимаешь?
К.Лаврентьева
— Страшное дело!
А.Митрофанова
— Поэтому, требовать здесь от Толстого, чтобы у него были прорывы уровня...
К.Лаврентьева
— ... Достоевского...
А.Митрофанова
— ... да... это, просто, некорректно. Это — разный жизненный опыт, это — разные вызовы, разная боль.
К.Лаврентьева
— Но, ты понимаешь, и Анну он скинул под поезд... говоря языком обыденным... и, получается, что и сам закончил жизнь... ну, мы не знаем, как ты правильно говоришь... но, всё же, в конфликте с Церковью. Это — величайшая трагедия!
А.Митрофанова
— Да, в конфликте... конечно, конечно... это очень больно, и...
Ты знаешь... вот, он «бросил Анну под поезд»... я с этим не вполне согласна. Вот, когда мы «Войну и мир» читаем... ну, давай... нет. Когда «Войну и мир» читаю я... буду говорить только за себя...
К.Лаврентьева
— У всех — своё, да...
А.Митрофанова
— Потому, что любой читатель Толстого имеет право бросить в меня камень и сказать: «А я не согласен! А я это вижу по-другому!»
Но в «Войне и мире» — я вижу много натяжек. Которые могу объяснить только тем, что «Толстой так решил». То есть, это, всё-таки ещё его первое такое гигантское произведение, где уже виден весь его масштаб. Он — гений, это не обсуждается. Это невероятный роман, и, вообще, мы Господу Богу должны быть благодарны за то, что такое явление есть в нашей культуре.
Но, с точки зрения достоверности психологической — про духовную достоверность я сейчас даже не буду говорить, потому, что это отдельная тема — это мы с отцом Александром Сатомским говорили об этом, применительно к «Войне и миру». Но, вот, с точки зрения психологической достоверности, там, как мне кажется, вопросы есть.
«Анна Каренина» — гораздо более точное, как мне кажется, произведение. То есть, Толстой уже не распоряжается судьбами своих героев — так, как он делает это в «Войне и мире», подгоняя их под те ответы, которые ему нужны. А он — следует за ними. Ну, это — классическое пушкинское: «Экий номер выкинула моя Татьяна — вышла замуж за генерала!» — то есть, он от неё этого не ожидал.
К.Лаврентьева
— Да, да...
А.Митрофанова
— То есть, персонажи созданы, запущены, действуют — автор фиксирует за ними, что они, там, делают...
К.Лаврентьева
— Какой-то процесс идёт... да? Параллельный, такой...
А.Митрофанова
— Конечно, конечно! И это, вот, как раз, настоящее творчество!
К.Лаврентьева
— Литература...
А.Митрофанова
— В этом смысле, это — Анна, а не Толстой, выбирает поезд. Понимаешь? Это не он её сбросил. Это её созависимость и её, по сути, и морфинизм тоже — доводят её до такого состояния.
Она ж там, в конце романа, если ты помнишь, вообще, уже видит мир искажённым. У неё, как будто бы... вот, знаешь... осколок зеркала тролля попадает ей в глаз, и она...
К.Лаврентьева
— Она в плохом состоянии, совсем в плохом...
А.Митрофанова
— Вот, как счастливый Левин, когда Кити говорит ему «да» — летит на крыльях своей реализованной любви, и весь мир цветёт и поёт ему навстречу... и он, там, в каком-то... Дворянском собрании... сидит и смотрит на этих людей... по правде говоря, скушных... обсуждающих какие-то... там... материальные вопросы...
К.Лаврентьева
— Незначительные вещи, да...
А.Митрофанова
— ... но он смотрит на них своими глазами любви, и ему кажется, что весь мир... и, главное, как они его, в этот момент, любят! И какие они все добрые и замечательные люди! И, вот, они... там... что-то препираются друг с другом... но они же — такие добрые...
То есть, вот, Левин — он всех видит, вот, в этом розовом свете, в этот момент!
И, вот, то же самое — только наоборот — происходит с Анной перед её роковым шагом.
К.Лаврентьева
— «Светлый вечер» на Cветлом радио.
В этой студии — я, Кира Лаврентьева, спрашиваю свою коллегу, дорогую ведущую Радио ВЕРА, Аллу Сергеевну Митрофанову, преподавателя кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, об «Анне Карениной» Льва Николаевича Толстого, и, вообще, о Льве Николаевиче Толстом.
Это целый цикл программ, которые сейчас Алла записывает, и, вот, сегодня — она стала, как раз, «спикером» на эту тему...
А.Митрофанова
— Ну, сегодня у нас последняя, завершающая программа, завершающая цикл...
К.Лаврентьева
— Да, последняя... завершающая цикл Льва Николаевича, и... ты знаешь... ты, вообще, конечно... триггеришь современного человека!
А.Митрофанова
— Почему? Чем?
К.Лаврентьева
— Смотри. Я, вот, думаю... конечно, мы не можем сейчас спросить Льва Николаевича, что он, там, думал, что он хотел... мы можем только простраивать какие-то версии — что ты сейчас и делаешь, и, между прочим, они, скорее всего, и могут быть правдой. Но точно мы сказать не можем...
А.Митрофанова
— Не можем... это всего лишь мои домыслы...
К.Лаврентьева
— ... правильно ты говоришь, что это — свои ощущения, свои мысли, на этот счёт, высказываешь.
Но, вот, я думаю... смотри...
Вот, она ушла к Вронскому — ужасная трагедия, семья разбита, ребёнок... по ребёнку она тоскует... новую девочку она рожает...
А.Митрофанова
— ... и она к ней не испытывает... такой привязанности...
К.Лаврентьева
— ... и она к ней не испытывает никаких чувств, как к своему Серёже... ну, то есть, вся... любая женщина, на самом деле, читающая этот роман, глубоко его воспринимающая — она понимает всё, что происходит с Анной.
Ну, смотри... тут же можно покаяться... тут можно уже сказать: ну, к сожалению, всё. Семья распалась, теперь надо что-то сделать здесь... И она — включает механизм самоуничтожения. Она включает механизм, вообще, уничтожения всего вокруг. И... можно было бы тот — через боль, через покаяние, через метанойю, уже с этим Вронским несчастным построить какую-то семью, раз уж так случилось... уже попытаться договориться с Карениным, умолить его о прощении, как-то примириться с ним — хотя бы, формально... с этим — начать, действительно, строить настоящую семью, раз в первый раз не получилось.
Понятно, что — трагедия... мы не умаляем... понятно, что она несёт последствия греха, она несёт последствия страсти, разрушительные совершенно — это её ошибка. Она в себе не разобралась, приняла нелюбовь за любовь... страсть... так далее... всё это понятно... созависимость... любовная зависимость — тут целый клубок, о чём можно говорить бесконечно... но уж можно же что-то начать заново? Но у неё уже, знаешь, как будто спусковой механизм включается — и её несёт, как этот самый поезд... знаешь... вот, она сама несётся, как этот поезд, под откос, и уже остановиться не может...
Что происходит, Алла? Почему у неё... вот... отсутствует всякая самокритика в этой истории? Как ты думаешь?
А.Митрофанова
— Вообще... вот, это состояние... болезнь созависимости... понимаешь...
К.Лаврентьева
— Слияние, вот, это...
А.Митрофанова
— ... да... когда человек не может жить свою собственную жизнь — ему нужно поглощать других, чтобы чем-то себя наполнять.
Это — то, как моя замечательная подруга, психолог Кристина Курочка, сформулировала: дыру, размером с Бога, никаким человеком невозможно заткнуть.
К.Лаврентьева:
— Да.
А.Митрофанова
— И, вот, Анна — она... у неё, вот, этого поиска Бога в её жизни — у неё, в принципе, этой опции нет. Она к ней не обращается.
Это, кстати, она такая — не одна. Многие светские люди того времени — для них вопрос... ну, как сказать... они все ходили в церковь... как-то исповедовались и Причащались... прибегали к Таинствам... они Венчались, естественно... да... там... всё... но чтобы...
Ты знаешь... вот... мне кажется, теми вопросами, которыми сегодня... там... на Радио ВЕРА... или в журнале «Фома»... задаются люди, чтобы, действительно, Бог стал движущей силой в их жизни, чтобы Он стал, такой, важнейшей частью их жизни... вот, мне кажется, что тогда у очень многих людей этого просто не было. Наверное, как и сейчас.
Вот, Анна — она, в этом плане, человек светский. И она — ищет по-своему. Действительно, из созависимости есть выход, есть исцеление от этой болезни — через призыв Божьей помощи.
К.Лаврентьева
— То есть, ты центр с человека переносишь...
А.Митрофанова
— Конечно, конечно! То есть, когда у тебя в центр твоей вселенной становится Бог, то всё становится на свои места! И это, как раз, то, почему из созависимости, на мой взгляд — хотя, я не специалист, о чём тут и говорю — я не специалист... но мне кажется, что, вот, всё-таки, наиболее оптимальный путь исцеления... вот, именно, из-целения — как человек из раздробленного становится целым, цельным — это, именно, духовная жизнь, в соединении с теми инструментами, которые может дать... скажем... современная, глубокая, хорошая христиански-ориентированная психология. Вот, соединение этих двух моментов — как раз, и может дать вектор пути выхода из, вот, этого... это даже не тупик, а... такое... «пони бегает по кругу». Созависимость — это «пони бегает по кругу».
У Анны — у неё нет такого запроса. У неё нет... она не ставит так вопрос перед собой. И, в итоге, она... понимаешь, ведь... ты вспомни, как она про Серёжу рассуждает, как она рассказывает о нём, когда она оказалась уже на этом страшном перепутье: от мужа она уже ушла... Вронский — не понятно, сделает он шаг навстречу их отношениям, или не сделает шаг навстречу их отношениям... выберет он её, или, допусти, развитие своей карьеры, и так далее... и она, такая: «А, что же... а, что же... а, что же — у меня? Ах... точно! У меня есть сын!» — и она вспомнила о сыне, она вспомнила о той, как Толстой сам пишет, несколько преувеличенной, может быть, роли матери, на которой она всегда настаивала. И она... как это сказать... сын — был её стержнем. «У неё есть своя собственная держава, а эта держава — был её сын», — пишет Толстой. Понимаешь?
То есть, на ребёнка — повесить такую колоссальную ответственность за всю свою жизнь! За то, чтобы «моя жизнь состоялась»! Вот, если у меня есть сын — значит, моя жизнь состоялась. Если у меня нет сына, значит — моя жизнь не состоялась. Если у меня сейчас его из жизни изымут, то мне тогда надо будет... на чём-то другом эту жизнь построить?
И, вот, когда сын из её жизни изымается, она начинает это всё на Вронского перекладывать. Вронский — занимает место, вот, этого стержня, которое раньше занимал этот несчастный мальчик Серёжа, израненный всей этой ситуацией страшной.
Вот... созависимый человек, всё время, ищет, на ком построить своё «я», и на ком построить свою жизнь. Кого взять под свой контроль.
Она же Вронского, в итоге, допекла тем... понятно, с Вронского это ответственности тоже не снимает...
К.Лаврентьева
— Гиперконтролем она его...
А.Митрофанова
— ... да... она допекла его тем, что, всё время: «А куда ты пошёл?... А где ты?...» — это, вот, то, что сейчас... там... знаешь... мы... сообщениями когда люди начинают друг друга закидывать, и человек, в итоге, чувствует себя под колпаком.
К.Лаврентьева
— Дышать не может...
А.Митрофанова
— И, вот... понимаешь?... и что из этого может вырасти?
А гиперконтроль — это недоверие... это нелюбовь, на самом деле. Это не любовь. Потому, что там, где любовь — там мы признаём свободу другого человека. Свободу.
И — да, мы понимаем, что он может, в какой-то момент... ну... условно говоря, не выбрать меня. Я, со своей стороны, должна приложить все усилия для того, чтобы этому человеку всегда со мною было очень хорошо, чтобы он рядом со мной был счастлив, чтобы он рядом со мной был реализован...
К.Лаврентьева
— Но не терять себя, при этом...
А.Митрофанова
— ... естественно!
К.Лаврентьева
— То есть, ты его любишь, не теряя себя — это целое искусство!
А.Митрофанова
— Да-да-да-да-да! Это и есть, как раз... понимаешь... когда две цельные личности...
К.Лаврентьева
— Это — тот велосипед, на котором надо научиться ездить. С Божьей помощью.
А.Митрофанова
— Да. Две цельные личности составляют... тоже... вместе... цельность. Но они... как это у нас принято говорить про «половинки»... на самом деле, не то, что... вот... они — две созависимые половинки... а они, именно, что — цельная личность и цельная личность, которые от щедрот — не для того, чтобы что-то получить взамен и выставить счёт — вот, мне должны то-то и то-то... а от щедрот — отдают от себя. Для того, чтобы порадовать другого. Для того, чтобы стать для другого... по сути, стать для другого... Христом...
К.Лаврентьева
— Вдохновением.
А.Митрофанова
— Да, даже больше, чем вдохновением! То, что у Достоевского: «Если бы все были Христы! Если бы мы друг другу были Христами, а не свиньями!» — понимаешь? Вот. Вот, стать...
Потому, что Господь, ведь, говорит: «Я пришёл послужить. Не чтобы Мне послужили, но Сам — послужить». Понятно, что мы хотим Богу послужить, и это — наш свободный выбор, и, в общем, это — правильно. Но... что делает Царь царей, Христос? «Кто хочет быть первым среди вас, да будет всем слугою... Кто хочет быть большим среди вас, да будет всем рабом...» — понимаешь? Не для того, чтобы что-то получить взамен... какие-то плюшки, бонусы... а потому, что — от своей полноты... и от своей любви... хочется отдать. Этому, человеку... этому... здесь обогреть... здесь погладить... здесь приголубить... понимаешь?
К.Лаврентьева
— Ты про взрослость говоришь. Ты говоришь про то, чтобы взять ответственность на себя...
А.Митрофанова
— Конечно, да... и это — духовная зрелость...
К.Лаврентьева
— Ты начала этот час — с обид... с обид!
А.Митрофанова
— Да... это совсем другое...
К.Лаврентьева
— Но, тем не менее, тоже надо взять ответственность за себя... на себя... да?
А.Митрофанова
— Конечно.
К.Лаврентьева
— Начать жизнь уже свою... жить как-то... ответственно... взрослеть! То есть, это же такое счастье особое... люди боятся взрослеть, а это — такое счастье! Личность раскрывается через это взросление.
А.Митрофанова
— Выбрать «не обидеться» — для начала.
К.Лаврентьева
— То есть, А — роман, помимо всего прочего, он, конечно, в первую очередь, наверное, про то мы, порой, ищем Бога — в людях...
А.Митрофанова
— ... вместо того, чтобы искать Бога — в Боге!
К.Лаврентьева
— Бога в Боге... То есть, наверное, все герои этого романа — они, как раз, пытаются найти Бога где угодно... вот, этот свой поиск... голод... вот, эту дыру — они чем только ни затыкают! Вот, чем только ни затыкают!
А.Митрофанова
— Знаешь, а, ведь, когда Бога в Боге человек находит, то он спокойно совершенно видит Бога и в людях...
К.Лаврентьева
— Он успокаивается...
А.Митрофанова
— ... тот самый образ Божий, понимаешь?
К.Лаврентьева
— Ты правильно говоришь — всё расставляется по своим местам.
А.Митрофанова
— Ну, это не я говорю, это... мудрые люди так говорят. Мы все знаем эту фразу: когда Бог будет на первом месте, всё остальное будет на своих местах.
К.Лаврентьева
— Ну... как говорит наш коллега любимый Константин Мацан, лучших слов для завершения этой программы не найти!
Действительно... какая-то тоже... такая... концентрация смыслов у нас произошла к концу этого часа, благодаря помощи Божией, в первую очередь, и работе Аллы Сергеевны интеллектуальной...
А.Митрофанова
— ... Льву Николаевичу Толстому — давай уж будем честны, что это он...
К.Лаврентьева
— Да, Льву Николаевичу Толстому — уважение и благодарность за его литературные труды, которые он нам оставил, которые... уже мировые — весь мир может питаться его такими изысканиями литературными...
А.Митрофанова
— Кстати, есть рейтинг Норвежского книжного клуба — ну, как принято считать, самый объективный рейтинг значимости произведений, художественных именно... потому, что там, когда проводили это исследование, когда этот рейтинг составляли, обратились к максимально широкому числу людей, весомых в мире литературы, авторитетов — в разных странах, говорящих на разных языках... то есть, более или менее, такая, вот, взвешенная картина получилась... и в этот рейтинг входит у Толстого «Война и мир»... то есть, там сто, по-моему произведений... сейчас точно не помню, сколько... туда входят «Война и мир», «Анна Каренина» и «Смерть Ивана Ильича».
К.Лаврентьева
— А я тебе хочу сказать, что в 1998 году, по-моему, ЮНЕСКО издали четыре тома про влиятельных людей, которые оказали, вот, какое-то влияние на развитие общества, в течение, вообще, всей мировой человеческой истории, и туда вошёл, как раз, Лев Николаевич. Да. И это — тоже удивительный такой факт, над которым можно поразмышлять, и какие-то, возможно, произведения Льва Николаевича нелишне будет, время от времени, перечитывать.
А.Митрофанова
— Ну, да... я бы не стала советовать его философские, так называемые, поиски... и кризисы...
К.Лаврентьева
— Ну, это уже его какие-то... личные кризисы... может быть, не всем они полезны...
А.Митрофанова
— ... да... это глубокий духовный кризис просто там отразился, как мне это кажется... или поиск... или поиск, который не завершился этим этапом...
К.Лаврентьева
— Не завершился...
А.Митрофанова
— ... но про следующий этап мы просто... вполне возможно, ничего не знаем — потому, что он был внутри у Толстого. То, что его «толстовство» тяготило, с определённого момента, это факт. Во что он вырос дальше — это уже тайна его сердца. Но... философские трактаты, конечно... на мой взгляд, не самый обязательный пункт программы. Тем более, люди с христианской системой мышления, ведущие поиск внутри Евангелия, там вряд ли что-то для себя...
К.Лаврентьеа:
— ... нового найдут.
А.Митрофанова
— ... принципиально прорывного найдут.
Нет, лучше читать Евангелия евангелистов, чем, так называемое, «Евангелие от Толстого»... «отредактированное», так сказать, Толстым.
А, вот, что касается тех прорывов, которые он сделал, как художник — они, конечно... они потрясающи.
К.Лаврентьева
— Спасибо огромное за этот разговор!
Дорогие наши слушатели, этот час у нас был очень необычным — в студии была Алла Сергеевна Митрофанова, ведущая программ Радио ВЕРА, преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО. Мы говорили о Льве Николаевиче Толстом, о его творчестве, и, в частности, о его величайшем произведении «Анна Каренина».
Мы завершаем этот курс — курс Аллы Митрофановой...
А.Митрофанова
— ... цикл программ о Льве Николаевиче Толстом...
К.Лаврентьева
— ... вот, сегодняшней программой, как раз.
Пожалуйста, обязательно переслушивайте — на сайте Радио ВЕРА уже все эти программы выложены. Пожалуйста, наслаждайтесь, слушайте, и будьте с нами!
А.Митрофанова
— Спасибо, моя дорогая!
К.Лаврентьева
— И тебе!
Всего доброго!
А.Митрофанова
— До свидания!
Все выпуски программы Светлый вечер
- «Неделя о мытаре и фарисее». Протоиерей Максим Первозванский
- «Семья — малая церковь». Протоиерей Константин Харитонов
- «Византия в эпоху Македонской династии». Дмитрий Казанцев
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
1 февраля. О служении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Сегодня 1 февраля. День интронизации в 2009 году Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
О служении Патриарха — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
Все выпуски программы Актуальная тема
1 февраля. О наставлениях преподобного Макария Великого о пути в Царствие Небесное

О наставлениях преподобного Макария Великого, жившего в четвёртом веке, о пути в Царствие Небесное в день его памяти — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.
Все выпуски программы Актуальная тема
1 февраля. О личности и служении Августина де Бетанкура

Сегодня 1 февраля. В этот день в 1758 году родился испанский и российский государственный деятель Августин де Бетанкур.
О его личности и служении — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.
Все выпуски программы Актуальная тема